Лауреат премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» — 2024 в номинации «Искусство» Иван Дмитриевич Чечот — солнце русского искусствоведения! — воспитал целую плеяду петербургских звезд арт-критики. «Институт Чечота» окончили Екатерина Андреева, Андрей Хлобыстин, Глеб Ершов, Иван Саблин. А общедоступные лекции Чечота, столь любимые петербуржцами, — это артхаус-блокбастеры и моноспектакли одновременно. Мистификатор, фланер и эстет, основатель одной из первых художественных галерей города — Navicula Artis и автор названия института «Про Арте» в 2024 году отметил 70-летний юбилей, выпустил 700-страничный opus magnum «Эпоха модерна в поисках классической традиции» и прямо сейчас участвует в подготовке большой ретроспективы главного немецкого романтика Каспара Давида Фридриха в Эрмитаже. Арт-туры, которые ведет Иван Дмитриевич, превращаются в перформансы: чаще аполлонические (с нами бог и солнце), местами дионисийские (мы в экстазе). В фанатском телеграм-канале «Чечот» публикуют расписание встреч и путешествий: мы следим и вам советуем.
Ощущение приближающейся грозы, встреча с Веласкесом и наш современник Рембрандт
Искусство сегодня — как оно живет?
Когда вы задаете такой вопрос: как живет-поживает искусство, — может, вы имеете в виду, как чувствует себя ныне картина «Возвращение блудного сына» Рембрандта, кого она интересует, ждет ли зрителей? Нет, конечно, вы все же спрашиваете о так называемом современном искусстве. А это такая система, внутри которой довольно давно сложился известный паритет направлений, технологий, художественных идеологий — и все они терпимы по отношению друг к другу. Художники давно не желают друг другу позора и провала, смерти от голода, не высмеивают друг друга. Правда, всё не так просто. Дело в том, что не вся публика искусства и не все творческие люди вошли в систему и приняли ее правила игры — есть и посторонние, и индифферентные, кто работает с теми или иными материалами, но к системе не принадлежит. Вообще, я не думаю, что система современного искусства чувствует себя сегодня совсем хорошо. Общество в целом потеряло к ней интерес. Политика, экономика, здоровье, психология, ковид, наука, мода, да много еще что интереснее и серьезнее в глазах общества. Про искусство, к сожалению, почти все известно, от него никто не ждет особенных новостей. И само искусство, похоже, от себя тоже новаций не ожидает. Разве есть ощущение приближающейся грозы? Или нового восхода солнца, идеи? Если что и ощутимо, это тоскливое или терпеливое ожидание — вдруг все-таки что-то изменится?.. Но система не хочет меняться, она занята самовоспроизведением и бесконечным ученым самоописанием.
Когда речь заходит об искусстве, вы часто говорите, что я не «увидел», а «встретил» ту или иную картину. Живопись агентна?
У меня, во-первых, имеются профессиональные отношения с искусством в публичном пространстве. Так, в высших учебных заведениях или лекториях я говорю не совсем от себя, а скорее от имени искусствознания, которое тоже вроде самовоспроизводящейся системы.
Однако есть у меня личные отношения с художниками, которых я встречаю на протяжении жизни. Нередко я открываюсь художнику и человеку, начинаю разделять с ним и его заблуждения, и его надежды. Наверное, выбор тех или иных художников говорит о моих метаниях и влюбленностях, но и, конечно, о моем поколении, его проблемах.
О ком из своих «влюбленностей и метаний» вы хотели бы нам рассказать?
Сейчас у нас в Эрмитаже идет замечательная небольшая выставка испанской живописи («От готики до Гойи. Испанская живопись из собрания ГМИИ им. А. С. Пушкина и Государственного Эрмитажа». — Прим. ред.). Я высоко ее оценил и совершенно по-новому с восхищением увидел Бартоломе Эстебана Мурильо. На этой же скромной выставке (не в Прадо, где я был несколько раз) я открыл для себя нового художника, которым ранее не интересовался: зовут его Веласкес. Я всегда несколько сторонился проблематики творчества Веласкеса, как ее описывает искусствоведение, да и мы про него почти ничего не знаем, слишком мало источников. И вот в 12-колонном зале Эрмитажа вдруг встречаю два портрета, задуманные Веласкесом, но выполненные художниками его школы, и два небольших, хорошо известных мне портрета кисти самого Веласкеса — король Филипп IV и его министр Оливарес. Сравнение четырех картин было задумано просто и убедительно. И тут я прозрел и, наконец, по-настоящему захотел в Прадо, чтобы увидеть там именно Веласкеса, а не кого-то другого. Это меня очень удивило.
Есть одна удивительная особенность ваших лекций. Когда вы говорите о Рембрандте, он как будто оживает и телепортируется в аудиторию — как это возможно?
Будучи так называемым искусствоведом, а также просто думающим человеком, я в первую очередь должен выяснить: что Рембрандт или кто-то другой значил для голландцев в середине XVII столетия? Выяснить это довольно трудно, потому что зрители и художники почти не оставляют следов, они не рассказывают, как они видят и чувствуют вещи. Коллекционеры нечасто объясняют, зачем они что-то покупают. В такой ситуации для меня важен обнадеживающий вопрос: что Рембрандт значит для нас сегодня, для меня, вообще для петербуржца, в отличие от москвича или жителя Новосибирска? Давайте выяснять, что мы видим-чувствуем, понимаем здесь и сейчас. Правда, выяснить это не легче, чем реконструировать прошлое.
Арт-туры как спектакли и география Чечота
Не все арт-туры одинаковы. Ваши славятся повышенной театральностью и перфомативностью, хотим знать особенности их драматургии!
В этих поездках я сам почти ничего не вижу, потому что сосредоточен на создании условий восприятия для участников. Хотя, конечно, глаз и голова очень сложно устроены: когда ты не видишь, на самом деле тоже видишь. Но это какое-то другое виденье. Я взял за правило после экскурсии спрашивать себя: а что я увидел в этот раз, несмотря ни на что? Если напрягусь, то обычно что-нибудь всплывает, причем то, что я и не думал увидеть.
Есть два разных режима восприятия: коллективное мероприятие в пространстве искусства и встреча с ним один на один. Причем иногда хочешь встретиться один на один, и никак не получается. Приходится быть один на один, так сказать, на сцене. Так уж у меня сложилось, что люди ездят в эти арт-туры как на праздник, ждут единой драматургии, атмосферы, чтобы появился Иван Дмитриевич — и «началось». Что, собственно, началось: да, интенсивный отрезок жизни, немного спектакль, в котором все — участники.
Для чего нужны такие арт-туры? Зачем искусству спектакль?
Хайдеггер говорил, что искусство нужно для того, чтобы появлялись «места». Если бы не было Медного всадника, не было бы Невы, петербургского неба, иначе выглядела бы наша биография. Если бы не было «Моны Лизы» в Лувре, не было бы ее зала и не было бы Лувра. Можно сказать, что искусство нужно для того, чтобы мы оказывались в его пространстве и наша жизнь и общение становились более интенсивными. Даже если мы не приглядываемся к произведению, но стоим около него, беседуем о чем-то, мы находимся в его пространстве, в его ауре. И моя цель — пробудить в зрителях это чувство места и события, ощущение встречи. Может быть, даже не с произведением, а, в первую очередь, с самим собой. Обычно для людей это нехарактерно. Даже придя в Эрмитаж или Лувр, люди думают, что там надо чему-то учиться, запоминать, изучать — и вот через четверть часа они уже устали. Но стоит однажды прийти с ними куда-то таким образом, чтобы у них выросли крылья, —и они запоминают места и мгновения, обретают топографию своей жизни в чуть более возвышенном, напряженном плане.
«Ничему не научаешься, но чем-то становишься».
Да. Особенно в пути, особенно в общении с искусством и историей. Вообще-то, эти слова сказал Гете о Винкельмане, как читатель его книг.
Ваши студенты создали тг-канал «Чечот» и сообщество «Вокруг Аполлона», посвященное вашему творчеству, проектам и встречам с учениками. Вы — школа и предмет искусствоведческого культа!
Студенческие встречи и поездки — для меня источник жизни, энергии, радости, не буду скрывать. Когда все начиналось, еще в 1970-е годы, разница в возрасте между мной и моими студентами была год-два, потом пять, десять лет. Сегодня она составляет пятьдесят с лишним лет! И я не могу сказать, что так хорошо понимаю и чувствую новые поколения. Время от времени я думаю, что могу показаться странным и смешным: вот какой-то старый человек носится, слишком много сил и энергии вкладывает. Да, мне хочется передавать определенный дух, носителем которого я являюсь. Его источник где-то в моей молодости, в моей семье. Свое раннее детство я провел в Павловском парке, не собираясь быть ни историком, ни историком искусства, я просто любил шляться по городу. Выйду из дома в школу, а сам вместо этого сел на трамвай и поехал изучать западную оконечность Васильевского острова, там еще и домов-то почти не было. Но было пространство и чувство первооткрытия. Изучать — это значит на все обращать внимание, всем интересоваться природой, техникой, развалинами и новостройками, рыбаками и доминошниками, все подмечать — кроншпицы, пятиэтажки, запах залива... Причем ездил я не один, довольно рано у меня появилась способность возглавлять ватагу. И ничего такого я не делал и не делаю, просто шел бодрее всех и все время на что-нибудь обращал внимание товарищей: давай посмотрим, залезем, проползем! По лужам, по грязи, не обращая внимания, что хорошие брюки и приличные кожаные ботинки превратились в черт знает что. Не различаю обувь для походов и для танцев. У меня всегда одна и та же обувь — лучшая, и в ней я иду прямо по болоту к тому самому месту, к цели. Вот этот порыв передать мне очень важно.
В дни летнего и зимнего солнцестояния в Старой Сильвии (на «Двенадцати дорожках») в Павловском парке вместе со студентами вы совершаете фруктовые подношения Аполлону и музам — что это за праздник такой?
«Праздник Аполлона» — это праздник петербуржцев, у которых, в отличие от жителей многих других городов, существует культура многочасовой прогулки. Каждое лето петербуржцы посещают загородные резиденции, смотрят, на месте ли павильоны, не перекрасили ли что-нибудь. Это праздник не в честь Аполлона как греческого бога, это не праздник классицистов, это праздник местного культурно-эстетического патриотизма, бенефис петербургского фланера. Зимний и летний Дни Аполлона представляют собой встречу друзей в возвышенном духе служения искусству и изящному общению. Асоциальные и слишком скептические натуры не находят себе места на этом празднике.
Вы известный фланер, из чего состоит география Чечота?
Нам нужны геотеги. Она известна: Калининград, Крым, Москва, Германия. Только что провел неделю на Валааме, был в самых отдаленных скитах, видел Север, влекущую серебристую даль. Погода была суровая, временами шел снег, мрачно, просвета не было никакого. В последнее время мечтаю о том, что к концу жизни начну осваивать родную страну. Хочу увидеть Сибирь, особенно после выставки Сурикова («Василий Суриков. К 175-летию со дня рождения» в Русском музее до 10 июня. — Прим. ред.). Мечтаю о поездке в Красноярск. Есть у меня относительно новый интересный замысел. Лет десять назад я написал очерк «География Фауста», в нем рассказывается о европейских городах, связанных с доктором Фаустом. Одна из моих читательниц вдохновилась текстом и предложила мне: «Иван Дмитриевич, надо написать вторую серию фаустианской географии — “Русское путешествие Фауста”». Я очень увлекся этой мыслью и составляю маршрут русского путешествия: действительно, а что хочет увидеть Фауст в России? Очень может быть, его притягивают к себе чудеса природы. И конечно, чудеса науки и индустрии, а значит Новосибирск, Комсомольск-на-Амуре. Он хочет увидеть долину гейзеров и Байкал. В Петербурге он хочет побывать в «кабинете Фауста» в Российской национальной библиотеке и в Институте мозга. В Москве тоже есть что ему изучить, хотя бы квартиру Булгакова на Патриарших прудах и мавзолей Ленина. Я слышал, что он пойдет в Третьяковскую галерею, где его экскурсоводом будет старший научный сотрудник Мефистофель. Интересно, какие картины они будут обсуждать? Может быть, «Явление Христа народу» и «Аленушку», а может, «Черный квадрат». Хотелось бы организовать небольшую группу фаустианцев, которые пройдут сибирскими путями доктора, и им будет небезынтересен и иволгинский дацан, и Саяно-Шушенская ГЭС.
Новая книга, маргинальное искусство и роль оценщика
Как и ваша география, темы, которые вы исследуете, всегда «с краю». Как правило, это не мейнстримные художники, а, наоборот, те, кто был отодвинут и вытолкнут системой. Ваша новая книга «Эпоха модерна в поисках классической традиции» тоже об этом?
Книга долго писалась и редактировалась, в ней есть неопубликованные тексты начала 1980-х годов и есть тексты, датированные 2024 годом. Я всегда думал, что я человек ветреный, влюбчивый. Мне только что-нибудь покажи, как я уже и заинтересовался. Но вот стал подводить итоги, и вдруг выстроилась какая-то линия, может быть, и вправду скорее маргинальная. Действительно, возможно, это и есть моя центральная тема. От природы я довольно двойственная личность, меня в равной степени притягивают свободолюбивые проявления, нарушение всяческих границ, и в то же время уважение к этим самым границам, их метафизическая ценность. Вообще эта двойственность описывается в понятии «консервативная революция». Через меня проходит трещина, очень характерная для представителя петербургской культуры. Потому что Петербург, это, с одной стороны, город дисциплины и классической традиции и в то же время колыбель авангарда, город трех революций и сцена проявлений разнообразных радикалов. Самый радикальный из которых, может быть, Федор Михайлович Достоевский. Но трещина эта стянута железными скрепами, и они не воспринимаются как чуждые.
Откуда у вас — ленинградского искусствоведа, мальчика из профессорской семьи — любовь ко всему маргинальному?
С юности мне никогда не хотелось принимать участие в коллективном воспевании, когда все тянутся к центральной сахарной голове и по-разному ее облизывают. И от нее на них распространяется сияние. В 1970-х годах я не стал заниматься ни итальянским, ни французским искусством, а позднее остался равнодушен к Америке, а это та самая сахарная голова. Я выбрал самое убогое искусство, какое только можно себе представить, — немецкое. А в немецком искусстве самое убогое, что можно себе вообразить, — XIX век. Еще мне всегда хотелось понять и прочувствовать все не самое правильное, не самое красивое, победительное и помочь ему приобрести друзей. Правда, вообще-то, я никогда свои темы сознательно не выбирал. У меня есть вера в мою судьбу или звезду. И это не означает, что на пути не будет страданий, противоречий. Но сопротивление звезде, волне, встрече бесполезно. И все, с чем я встречался, я воспринимал всерьез. Это мой мучительный метод. Не умею я выбирать. Неплохой адвокат и диагност, я плохой экзаменатор и оценщик. Не доверяю себе, воздерживаюсь от скорого суда. Оценивать ведь надо сразу. Попробовал и сделал немедленный выбор: мое, не мое.
А если залпом?
Вот я так всегда и поступаю по глупости: выпьешь залпом — значит примешь в себя, напиток начнет свою внутреннюю непредсказуемую работу, станет частью тебя самого. Если отнесся серьезно, то полюбил и понял, и даже интересно стало. Интересно, в том числе в культуре, не только выдающееся, но и все, что стало составной частью твоего опыта. Все становится интересным, в особенности для познания, в зависимости от того, сколько сил ты вложишь в предмет.
Школа Masters, «Третье место» и Зубовский институт
Вас пригласили войти в жюри ярмарки TPAF 2024 в «Третьем месте» — как же вы будете оценивать?
В последнее время я много работаю с «Третьим местом», меня вдохновили энтузиазм и широта натуры инициаторов проекта. Придумал цикл художественно-критических выступлений о текущих музейных выставках «Салоны Дидро», на которых выступаю в роли Дидро — это мое последнее увлечение. И тут мне говорят, что будет ярмарка и что мое имя важно, полезно и т.д. Скорее всего, скажу: всех взять на ярмарку — нам жалко, что ли, а там посмотрим. Но вообще, в ходе этой новой истории мне будет о чем подумать, вступлю в спор с самим собой — это будет непростая ситуация, и она приведет к очередному витку самокритики.
Вы читаете лекции в «Третьем месте», водите экскурсии, ездите в арт-туры со слушателями школы Masters. И ведете научную деятельность в Зубовском институте — как вам удается все совмещать?
Masters — родное для меня место. И в Masters, и в «Третьем месте» я встречаюсь с широкой публикой. Надо сказать, что от университетского преподавания я устал и собираюсь покинуть аудитории СПбГУ. А от встреч с публикой, напротив, не устал. Дело в том, что в университете студенты охвачены беспокойством: кем быть, что выбрать, как пойдет их карьера, что актуально, как бы не прогадать? Волнуют не столько вопросы искусства и познания, сколько жизненно-практические вещи. «Взрослая» публика шире, сложнее и даже свободнее. Она не собирается делать карьеру. Что касается Российского института истории искусств (Зубовского института), то это место наших научных конференций, место для дискуссий. У меня довольно много аспирантов, сейчас ждем еще две защиты. В институте я снова напрямую сталкиваюсь с вопросами о судьбах и перспективах профессионального искусствознания. В науке об искусстве, как и в самом искусстве, не все благополучно. Потеряна мотивация, стало неопределенным представление о назначении искусствоведческой работы, многое делается просто по традиции. Слава богу, у нас в Институте истории искусств, по крайней мере на заседаниях нашего сектора, царит атмосфера честности перед самими собой, и мы можем открыто обсуждать болезненные профессиональные вопросы. Я очень это ценю.
Со своими студентами и аспирантами вы уже многие годы ездите в Летние школы, какое оно — лето с Чечотом
Важнейший для меня проект Studia humanitatis Insterburgensis вырос из иррациональной ностальгии по Калининградской области — ее природе, историческому наследию и даже современному состоянию. Летняя школа представляет собой отчасти лекторий, отчасти недельную конференцию. В замке Инстербург в городе Черняховске царит дух свободного познания, которое должно тебя захватывать. Там нет ничего обязательного и ничего связанного с карьерой. И все это на лоне природы, без спешки, в режиме прекрасного кинофильма о том, как я провел лето. Мы, деятели культуры, все время заботимся о ком-то другом — о каком-то художнике, зрителе, читателе. Но почему бы однажды не позаботиться о самих себе и своем личном творческом развитии? Оно ведь не может считаться завершенным. И провести десять дней так, чтобы нас это обогатило. Насытиться этим жанром никак не удается. Не хотел проводить школу в этом году, а между тем уже готов план лектория и школы в городе Советске-Тильзите на тему «Река народов и культур — Неман, Мемель, Нямунас» (начало — 4 августа 2024 года). Народы и культуры, проживающие по берегам Немана, — это и русские, и литовцы, и немцы, и белорусы, и евреи, и поляки. Будем ездить вдоль Немана в сторону Литвы, Белоруссии и Польши, читать Иоганнеса Бобровского и Мицкевича, изучать литовского философа Видунаса и ландшафт, и архитектуру, слушать лекции и делать доклады.
Учителя, друзья и как «ничего не бояться»
Кто были поворотными людьми в вашей жизни, изменившими ее траекторию?
Таким, какой я есть, я стал во многом благодаря моей учительнице музыки Эвелине Ивановне Сафаровой. Встретились мы, когда мне было 16 лет, и занимались довольно долго, до моего 26-летия. Помню ее слова, что все нужно делать профессионально. Целоваться, например, тоже нужно профессионально, то есть без дураков. Учиться нужно профессионально, работать. В это слово она вкладывала многое, если не всё. Сосредоточенность, полноценность, искренность — все это важнее формальностей, безупречного технического совершенства. Это был важный в моей жизни человек, как и вообще музыка и музыкальное исполнительство. Изобразительное искусство я не только вижу, но и слышу. Мне свойственно синтетическое восприятие искусства: все искусство есть для меня сразу и поэзия, и музыка, и театр. Вся музыка для меня — это и архитектура, и живопись, и поэзия. В студенческие годы создавать научные тексты, быть дотошным, точным меня научил Валентин Александрович Булкин, знаменитый педагог, археолог и историк древнерусского искусства. Сначала я даже думал, что буду заниматься древнерусской иконописью. Позже моими учителями стали двое друзей, эрмитажная легенда: Борис Алексеевич Зернов и Борис Иосифович Асварищ. Один был старше, мощнее и оригинальнее. Другой был младше, но ироничнее. Они мне очень много дали, часто вспоминаю какие-то их высказывания, брошенные по поводу искусства и литературы. От Бориса Иосифовича Асварища у меня по наследству Макс Бекман (в 2016 году вышла книга И. Д. Чечота «От Бекмана до Брекера. Статьи и фрагменты». — Прим. ред.) как тема и увлечение. Асварищ собирался писать про него диссертацию, но времена были не для Бекмана, и ничего из этого не вышло. А потом он стал хранителем живописи XIX века и в целом распрощался с модернизмом.
Какие ключевые события стали судьбоносными в вашей жизни?
Конечно, 1972 год, мне 18 лет. Наша университетская группа садится в поезд Ленинград — Берлин на Варшавском вокзале. Мы проводим в ГДР целый месяц, и у нас даже довольно много денег (советский рубль обменивался в ГДР по очень хорошему курсу). Я впервые вижу Германию, которую ищу всем сердцем, — не Запад, не Европу, но Германию, «мою любовь, мое безумие». Там я впервые приобщаюсь ко многим вещам в науке и искусстве, которые не отпускают меня по сей день. Еще поездка на Кубу, 1986 год, целый год в городе Сантьяго-де-Куба по линии сотрудничества университетов. И там дело было даже не в природе, не в солнце, не в море, не в раковине, которую я поднял из Карибского моря, и вон она стоит здесь, у меня в кабинете. Меня поразил кубинский, латиноамериканский народ, у которого есть своя народная музыка, народный танец, народная кухня. У которого вообще есть ярко выраженная народность. И мы, бледнолицые советские люди, выглядели на этом фоне довольно безлико. Впервые на Кубе я понял, что такое гитара как народный музыкальный инструмент. На Кубе я также встретился с современным искусством. Оно там не было запрещено, как у нас. Художники должны были состоять в союзе, исповедовать социализм и при этом могли быть абстракционистами, сюрреалистами, кем угодно. Интересно, что молодые художники, которых я встретил, находились под покровительством иезуитов, с ними я попал в иезуитскую школу, в католический монастырь. Там у меня случилось открытие, что Куба — католическая и глубоко религиозная страна. В иезуитском монастыре я впервые в жизни увидел латинские тома Фомы Аквинского и святого Бонавентуры, библиотеку в стиле барокко, испанские картины XVII века. Барокко — один из лейтмотивов моей жизни. Отчасти это от «старика», Александра Антоновича Морозова, выдающегося литературоведа и переводчика «Симплициссимуса», который удостоил меня чести быть его молодым другом
Вы часто говорите о значимости Москвы в вашей жизни.
Через маму и бабушку я связан с Москвой, мой дед из московских Голицыных. В Москву меня часто возили в детстве. И тогда я с пеной у рта доказывал, что Адмиралтейство выше и прекраснее, чем Московский университет. Позднее я полюбил Москву, ее широту, картинность и ее любомудрие, воплощением которого стали для меня великий Александр Викторович Михайлов (универсальный ученый-гуманитарий, переводчик и германист) и мой друг, выдающийся русский искусствовед Михаил Михайлович Алленов (специалист по А. Иванову, Врубелю, Сомову, Сурикову). Стал возить в Москву студентов. На две недели, в самое гнилое время, в феврале. Но относился я к этой поездке профессионально: по колено в снегу, с мокрыми ногами мы исследовали город вдоль и поперек
Какой бы завет вы дали не молодому, а уже состоявшемуся художнику, человеку в середине его пути?
Я бы сказал то же, что сказал мне мой отец, когда мне исполнилось 45 или 50 лет. Он сказал: «Ваня, ты знаешь, в этой жизни есть еще вторая и даже третья серии». Я бы посоветовал встряхнуться, ничего не бояться и начать кое-что с самого начала. Искусство начать снова, жизнь и любовь. И все получится! А не получится — значит, такая судьба. В любом случае нужен новый опыт, и в него нужно верить. Так что еще будет вторая и даже третья серии. Вот так.
Текст: Алексей Ган, Елена Юшина
Фото: Наталья Скворцова
Свет: Федор Лебедев / Skypoint
«Собака.ru» благодарит за поддержку партнеров премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» — 2024:
Эксклюзивного партнера, производителя премиальных украшений с российскими бриллиантами — ювелирный дом MIUZ Diamonds
Газпромбанк — официальный банк премии
Торговый дом «Рятико» с брендом ReFa — роскошным уходом для вашей кожи
«Моменты. Repino» — клубный малоэтажный жилой комплекс от девелопера «Абсолют Строй Сервис»
ASKO — мировой премиум-бренд по производству бытовой и профессиональной техники




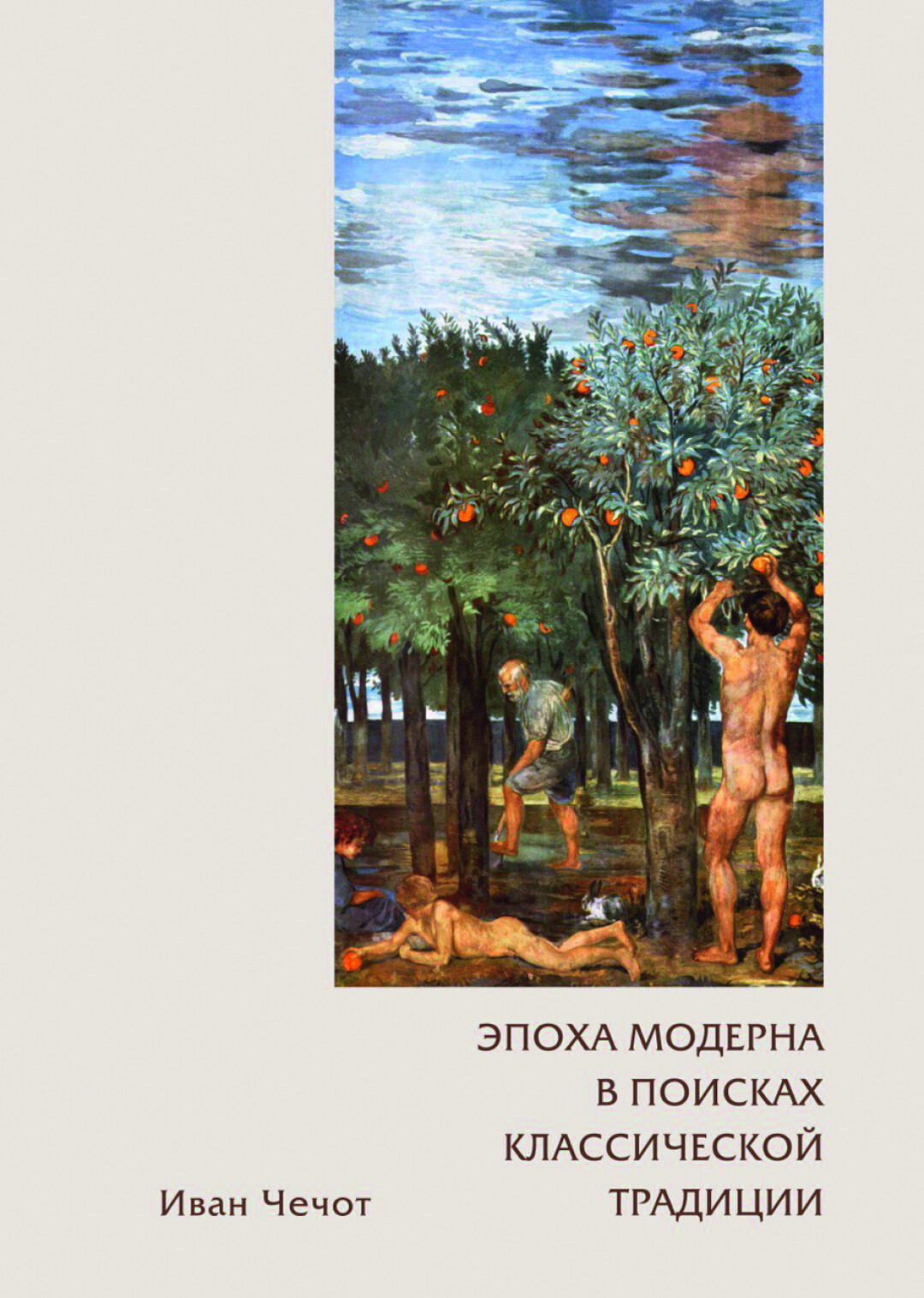


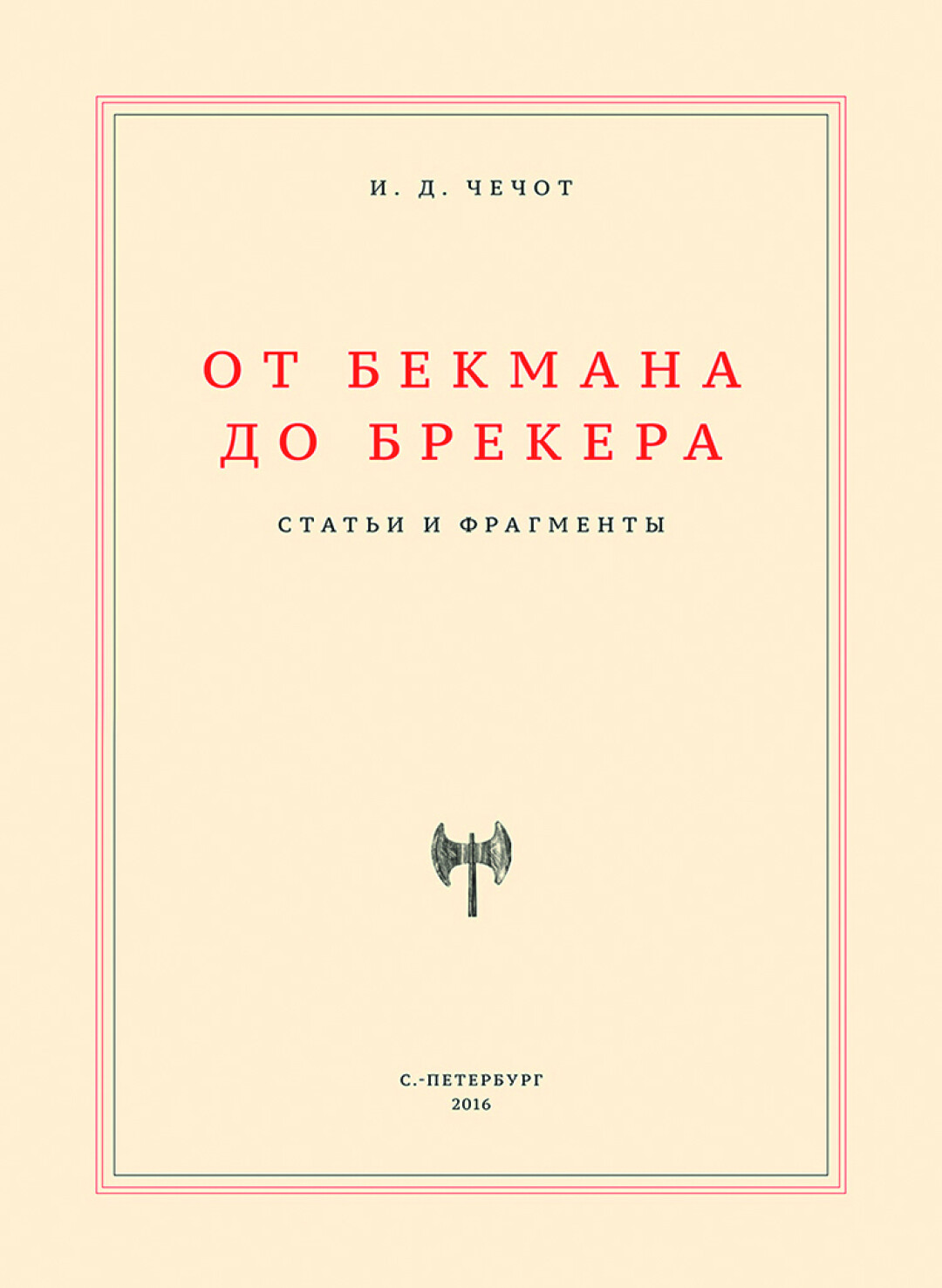
Комментарии (0)