В Главном штабе Эрмитажа прошел арт-марафон «Кифер и Хлебников. Пересечения: живопись — литература — музыка». На нем искусствовед Иван Чечот рассказал, почему выставка немецкого художника – грандиозное событие, хотя отдельные картины и могут показаться слабыми.
Еще в 1980-х Кифера приветствовали в России как выдающееся явление, как художник, который создает произведения на исторические темы – болезненные и трагичные. Это высокая оценка. Можно провести параллель с нашим соц-артом. Ведь соц-арт был попыткой не столько критиковать советское наследие, сколько сделать его трамплином для художественного творчества. Кифер нечто подобное попробовал совершить по отношению к наследию старой Германии. При этом я вовсе не говорю, что по отношению к наследию национал-социалистического искусства. Это искусство никогда не было ему близко. Речь идет о старой Германии – XIX века и первой половины XX века. Германии непреодоленного романтизма. Вот, что прежде всего отрицалось и отрицается по сей день в той либерально-демократической, исторической, культурологической, художественно-критической среде, которая правит балом на Западе. Конечно, у Кифера это было связано с наступлением эпохи постмодерна, которая и открыла возможность тосковать по немецкому романтическому искусству. Эта тоска была и в нашей стране. Естественно, не в широких кругах, а в некоторых узких сообществах, где по традиции культивировалось российское романтическое германофильство. Яркость, масштабность, лапидарность решений Кифера была оценена положительным образом – кго парафраза и одновременно пародия на романтизм, на немецкий натурализм, и, наконец, на традиционалистскую духовность первой половины ХХ века, которая в середине столетия и окрасилась в националистические и национал-социалистические тона.
Высокая оценка раннего Кифера в России связана также с пониманием его искусства как более-менее легко интерпретируемого. Если мы видим на картине выжженную дорогу, значит это про войну. Если на картине архитектура Рейхсканцелярии – про Гитлера. Многие зрители в Эрмитаже сейчас делают похожий вывод: если für Khlebnikov — значит это про Хлебникова.
В середине 1990-х годов мне пришлось выступить с моим первым текстом об Ансельме Кифере. Он имел игривое название: «Витязь распутья». Несомненно, талантливый, мощный человек Кифер представлялся мне в то время художником, перед которым лежат две дороги: один путь громовый, монументальный архитектонический и героический. Он и результаты, полученные на нем, уже был заподозрен критиками в криптофашизме. Да, в этой монументальности была ярко выраженная претензия на нечто вечное, неподвижное, никуда и никогда не меняющееся. А нет ничего страшнее разговора о вечном для мейнстрима той культуры, в которой мы с вами выросли и живем. Второй путь — шелеста. Путь журчания. Журчания времени, осенних листьев, истлевших одежд. Это путь алхимии, в которой нет ничего вечного, кроме трансмутации, кроме изменений, кроме процессуального начала. Живопись и алхимия по своему глубинному происхождению – родственники. Ведь живопись — процесс. Правда, этот второй путь тоже заподозрили в некоторых опасных вещах: в пассивной созерцательности, которая ведет в конечном счете в некую декоративную сферу, окрашенную в несколько сентиментальные осенние тона. Ничто не вечно, все течет, и в конечном счете – по кругу. Для мейнстрима, его эстетических и общественно-политических представлений и ценностей, течение всего и вся по кругу также невыносимая констатация. Нет и не будет прогресса, революции, прорыва, бунта. Ничего не будет нового.
Таким образом, мы видим, что оба пути в некотором роде сомнительные, с точки зрения тех задач, которые предписывает искусству современное западное либерально-демократическое общество. Это искусство не говорит нам: «Мы построим новый, справедливый, счастливый мир». Оно либо говорит нам, что на нашем пути стоят вечные загадки, они же вечные законы, либо мы должны будем вместе с круговоротом веществ в природе идти по кругу.
Мне кажется, у Ансельма Кифера, с которым мне посчастливилось познакомиться, есть по крайней мере две стороны. Одна сторона — нечто мягкое, с улыбкой, которая у него очаровательно шаловлива. Нечто инфантильное: мальчишка играет в свою игру до семидесяти с лишним лет. И нечто женственное, хрупкое. Понаблюдайте за его почерком, за его графикой, за выбором оттенков цвета. Вы чувствуете в этом мужественную натуру? Я — нет.
Но есть другая сторона: это воля. Воля к созданию крупной формы – быть режиссером и дирижером спектакля. Воля, которая позволяет художнику в нужный момент поставить акцент. Воля достигнуть успеха, свидетелями которого мы с вами являемся. Но скажу, что не все зрители в восторге. И сам я, признаться, сначала не был. И все-таки — успех. Великолепно преобразован зал: громадные картины подчинены единому замыслу. Нечто трудновыразимое и формулируемое висит в воздухе зала. Этот успех достигнут стратегической волей художника. Отдельные штрихи — вполне возможно неудачные, отдельные картины — слабые. Может быть, даже вся живопись никуда не годится. Но ивент грандиозен. Выставка такая, какой мы давно не видели. Но резонанс, но усилия умов постичь эту эфимерию — это очевидный успех. Две стороны, которые я сейчас обрисовал, могут быть описаны с помощью всем знакомой русской поговорки, которая приходит в голову, когда общаешься с господином Ансельмом Кифером: «Мягко стелет, жестко спать».
Хлебников. Мы слышали это имя с детства, приобщились к поэзии этого выдающегося человека в юности. Но это приманка. Еще только приманка. А что сервировано? Ответить на этот вопрос крайне непросто. Две стороны дарования открывались перед художником Кифером, как два разных пути в конце восьмидесятых годов, и, как мне кажется, все началось с поэта Пауля Целана. Сначала у Киыера был Вагнер, Ницше, Стефан Георге. А потом пришел Целан. И его картины становятся все более прозрачными, легкими, и мы видим, что по структуре они представляют собой палимпсест ( рукопись на пергаменте поверх смытого или соскобленного текста – Прим.ред.). То есть некое письмо по написанному или показ чего-то сквозь какую-то завесу, сквозь иную среду. Тут уже нет громовых решений, нет архитектоники и героики. И в 1996 году я задавался вопросом: ну что же дальше будет с Кифером? Когда он сдвинулся в сторону шелеста и журчания, в сторону диалектики, снятия противоречий. В это же время происходило изменение во вкусах эпохи. Так произошел поворот у Кифера от символических материальных объектов, объектов-энигм и загадок к стилю отдаленной точки зрения.
Почти каждый журналист считает своим долгом отметить, что Кифер выставил в Николаевском зале так называемый белый куб. Черт подрал! Один писатель написал про этот белый куб, и теперь каждый считает своим долгом везде и всюду, где белое, находить белый куб. Но в самом ли деле то белое, что воцарилось в Николаевском зале — это белое белого куба эпохи минимализма и концептуализма? Мне кажется, что это другое белое. На него нужно посмотреть не как на понятие, его тоже нужно пережить, как среду, как тональность, как чувство. И не мертво-белое, и не чисто белое, а какое-то разное. И, как мы знаем, зал белый. Посмотрите, белыми стенами экранирован этот зал. Не изумрудно-зеленый, не синий, не военная галерея 1812 года с ее темным винным красным оттенком.
Мне кажется, что все это не про Хлебникова. И не только не про него, но также и не про революцию, и не про историю. Не про политику, геополитику, и не про такие вещи, которые можно было бы связать с пресловутой нумерологией. Иначе бы это было как-то совсем провально и глупо. Мы, конечно, верим художнику, что он взял в руки книгу Хлебникова, прочитал из нее сколько-то страниц. Сам он признается, что стихи ему не давались, а вот прозаические фрагменты произвели впечатление. Чем? Тем что это какая-то потрясающая отвязная бессмыслица? Тем, что это что-то непостижимое, невозможное в обществе просвещенных людей. И Ансельм произносит слово дадаист. Не в том смысле, что он похож на Курта Швиттерса, он не похож не на кого из дадаистов. А в том смысле, что непонятно куда и зачем с ним, кроме как посвятить ему что-нибудь.
Я думаю, что это не концептуальное искусство. И именно поэтому критическая машина несколько пробуксовывает. Она не очень знает, что написать про этого Кифера. Ведь если бы это был концептуально мыслящий художник, тогда еще понятно. А это не концептуальное искусство. Но это также и не просто живопись. И не просто пейзаж. А что же это тогда такое? Я думаю, что это про живописную задачу. В разговоре со мной художник признался, что иногда ему кажется, что он еще вовсе не умеет писать. «Очень даже похоже на то», — говорят некоторые наши художники. Но живописная задача его страшно увлекает. Сам художник знает, что он не Пуссен и не Якоб Рейсдал. Что каждая картина в отдельности у него очень относительно получилась. Но красота зала, спектакля, который ставится посредством картин — вот про что это. А еще про что? Про соотношение того, что вечно в геометрическом смысле слова. Кстати, это везде присутствует у Кифера в его картинах. Они все прямоугольники, они все разделены линией горизонта напополам, в них очень много простых прямых линий. Это некие вечные, холодные, сухие структуры. Они же выражены и в архитектуре зала, и в его призматической форме. Но одновременно эта выставка про текучее. Про всякую линию, живописное движение, движение света, движение чувства зрителя. И художник их обыгрывает, смягчает, оттеняет, и делает более жизненными. Я бы сказал еще, что все это про некоторую безответственность и безотчетность искусства вообще, искусства живописного, текучего, музыкально-лирического свойства. И все это только для чувства.
Я был на выставке Кифера с одним нашим петербургским художником. Этот художник пишет бурные картины с фигурами, жестами, минами, экспрессией. Он сказал: «Замечательно! Потрясающе! Но все-таки одни пейзажи. То есть ничего не видно!». Ну действительно, не будем же мы серьезно смотреть на камыши, какие-то веточки, линию горизонта, какие-то отражения. Ну почему такой большой художник и значительный мыслитель, интересующийся человечеством, историей, не покажет что-нибудь? А на этой выставке и на многих своих картинах ничего не показывает, не являясь при этом абстракционистом. Как выйти из этой дилеммы? Выход этот известен: ввести символ, лицо, покрыть пейзаж знаками, надписями. Восходит это к романтизму, а с середины 19 века к знаменитому швейцарско-немецкому живописцу Арнольду Бёклину.
Если с этой точки зрения посмотрим на произведения Ансельма Кифера на нашей выставке – конечно, на этих картинах присутствует все. Огромное количество ассоциаций они возбуждают. И в то же время в них ничего нет. Многие зрители говорят: «Ах, как жалко, вот был Кифер когда-то». Там была проблема, там было противоречие, герой, какой-то утверждающий или отрицающий жест. А теперь героя нет. А пейзаж, часто так похожий на Жан-Батиста Коро, это мнимость. Мнимая пустота. Получается, жидкость картин по содержанию, и в то же время претензия художника на то, что в них изображено все мировое целое. Вся история.
Но все-таки одна вещь на этой выставке и в этой серии работ четко и ясно обозначена. Это посвящение Велимиру Хлебникову. Кто это в смысловом горизонте его серии? Авангардист русский? Поэт? Нумеролог-оккультист? Блаженный мужичок из России? Кто это такой? Имеет в виду художник поэта? Вряд ли. Чудака? Скорее всего. Лицо, фигуру? Нет. Я думаю, он имеет ввиду прежде всего имя. Имя с неким неопределенным значением, с некой музыкой. Не личность, а что-то энигматическое, и этому энигматическому посвящение. А что такое вообще посвящение? Это не адрес «для кого», а, скорее, провозглашение некоего принципа, которому оказывается наивысшая честь. Посвящение — это провозглашение некой сущности, как если бы эта сущность была, например, Солнцем. Так и für Khlebnlikov — это приветствие какой-то сущности. Я уже говорил о том, что художник называет эту сущность дадаистической. Что значит дадаистическая сущность? Некоторые интерпретаторы говорят: «Дадаизм – это предельная форма релятивизма, предельная форма бессодержательности, предельная форма пустоты, безответственности, это нечто скользящее, провоцирующее нас, манящее, и в конечном счете оставляющее ни с чем». Но есть и прямо противоположные задачи.
Дадаизм — это практика присутствия. Использую выражение Алексея Цветкова, «суперприсутствие», лишенное функции, адреса, мотива, смысла. Оно не может быть классифицировано. Все вещи можно классифицировать: это живые, это неживые, это минералы, это животные и так далее. Только суперприсутствие не классифицируется. В этом смысле für Velimir Khlebnikov есть приветствие объективности. Той объективности, которую невозможно сдвинуть с места. Хлебников был. Зачем он был — не понятно. Явно не для того, чтобы у нас сегодня была современная поэзия. А для чего — не ясно. Все, что было в истории, заняло определенное место, и уже не вырвешь, не сдвинешь, не изменишь. Можно только надстраивать и пристраивать. Можно отодвигать в тень, можно экранировать так, как экранировал Николаевский зал наш художник.
Это мнимые пейзажи, мнимо-концептуальное искусство и во всей своей обнаженности художник, который знает, что он работает после смерти живописи, изобразительного искусства. Для него самым главным является живописная задача: присутствовать, суперприсутствовать как живописец. Вопреки всему и вся, вопреки тому, что никакой живописи с картинами давно быть не может. Присутствовать так, что на тебя показывают пальцем, говоря, что ты деньги делаешь, говоря, что ты пишешь сентиментальные картинки для слюнтяев. Эта выставка представляется мне уроком для молодых художников. Это призыв присутствовать, каким вы есть, на всю катушку, не оборачиваясь ни на кого, не глядя никуда в сторону. Присутствовать долго, и 10, и 20, и 60 и даже 85 лет.
Текст: Валерия Чучман
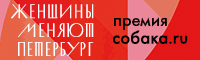






Комментарии (0)