Одной из главных новинок петербургского Книжного салона стал сборник эссе Михаила Трофименкова «XX век представляет. Избранные» — продолжение его масштабного нон-фикшена «ХХ век представляет: кадры и кадавры». «Собака.ru» публикует отрывок из книги, посвященный Эдуарду Лимонову — «самому скандальному писателю» конца минувшего столетия, чей байопик собирается снимать Кирилл Серебренников.
Эдуард Лимонов
(1943–2020)
Едва его не стало, сотни некрологов помянули «самого скандального русского писателя конца ХХ века», того самого «Эдичку», который на нью-йоркской помойке брал в рот у какого-то негра. Хотя скандален Лимонов ничуть не более, чем Толстой со своим богоборчеством, Достоевский со своим петербургским бредом или Маяковский, самую поразительную лирику тоже писавший «про это». «Это я— Эдичка» (1976) — что угодно, но только не порнография: один из самых пронзительных воплей о любви и одиночестве, которые когда-либо срывались с языка русского писателя.
Впрочем, в защите Лимонов не нуждается.
Лимонов был обречен и на то, что посмертно, как и при жизни, его уличат в «отсутствии фантазии». Дескать, писать он мог только о том, что испытал на собственной шкуре. Потому-то менял страны и континенты. Потому-то воевал насмерть с прекраснейшими женщинами, которых любил. Потому-то любил войны, чьи запахи и цвета мгновенно, жадно и хищно фиксировал на бумаге. Ну да, конечно. Повезло человеку. Это же так просто — всего лишь описывать, что с тобой происходит. Загвоздка лишь в том, что бессчетным его современникам, безусловно одаренным творческой фантазией, как-то «не повезло»: не выпало им и миллионной доли страстей, что питали творчество Лимонова.
Страстность удивительно и изначально сочеталась у него не то чтобы с рационализмом, но с четким, стоическим переживанием тщетности любых страстей, приятием и отрицанием конечности жизни. Автор и герой своих книг, он пребывал одновременно и внутри, и вне текста. Вот— душа, а вот — тело.
Вот он я, каким я хотел бы быть. Вот он я, как я есть. И вот он я, каким мог бы быть. Вот — невыносимая отчетливость, осязаемость вещей, женского тела, оружия. И вот — удивительная ирреальность тех же самых предметов и тел. Его, казалось бы, на все насмотревшийся и все познавший герой не переставал изумляться миру. Это сродни фотореализму, в котором абсурдность и метафизичность реальности прямо пропорциональны ее тяжелой вещности:
Я в мясном магазине служил,
Но интеллигентом я был
И все время боялся свой длинный
Палец свой обрубить топором.
Вот — я. А вот — топор.
Лимонов, зная себе литературную цену, отчаянно сопротивлялся роли живого классика. По силе этого сопротивления он сравним разве что с 90-летним Годаром, отчеканившим на вопрос журналиста о фильме, посвященном его любовно-революционным приключениям 1968 года: «Меня не интересует прошлое, меня интересует только будущее».
О том, что Лимонов, как бы он этому ни сопротивлялся, был обречен стать классиком, свидетельствуют сами зачины его книг: сгустки энергии, выстрелы в упор. Взять хотя бы «Подростка Савенко» (1983).
Эди-бэби пятнадцать лет. Он стоит с брезгливой физиономией, прислонившись спиной к стене дома, в котором помещается аптека, и ждет. Сегодня Седьмое Ноября, в прохладный полдень мимо Эди дефилируют наряженные граждане, или козье племя, как он их называет.
Или — начало «Книги мертвых» (2000), самых значительных русских мемуаров со времен книги Ильи Эренбурга «Люди, годы, жизнь». Одноклассник журит Эдуарда-тогда-еще-Савенко:
— Мать на тебя жалуется, — сказал он. — Работу ты бросил,— и замолчал. — На *** (зачем — Прим.ред.) ты к бандитам лезешь, Эд? Мать обижаешь. Учился бы, стихи писал, в Москве вот Литературный институт есть…
Мать, ну не обижайся. Что до работы, «пускай работает рабочий», как пел Леша Хвостенко, друг Лимонова. К бандитам лезу и буду лезть. А стихам научиться нельзя, они или есть, или их нет. Вот: в трех фразах — вся литературная и человеческая биография Лимонова. Весь его отрицательный символ веры, формула того, чего он будет избегать всю жизнь и избежит. Как философ Григорий Сковорода, он мог гордо и нескромно констатировать: «Мир ловил меня и не поймал».
Пацан с бандитской харьковской окраины, заводчанин, завальщик шихты, обрубщик, монтажник, кем там он еще перебывал — последний великий самородок русской литературы, сравнимый лишь с Максимом Горьким. И одновременно — первый русский европеец новейшего времени, не просто свободно писавший по-английски и по-французски, но видевший мир в его целостности, красоте и мерзости. В Париже в 1990 году он жаловался — не малознакомому мне, а безразличным небесам — на онтологический идиотизм диалогов с перестроечной интеллигенцией. Типа, он им о Пазолини, Жене и Ги Деборе, а они в ответ: «Зато в Швеции тротуары с мылом моют». Он им о родовом проклятии колониализма, о сумерках Бронкса, о неупокоенном пепле парижских коммунаров, а они в ответ: «Зато в Швеции…»
Подобно Кропоткину из своего стихотворения:
По улице идет Кропоткин
Кропоткин шагом дробным
Кропоткин в облака стреляет
Из черно-дымного пистоля —
Лимонов стрелял в облака интеллигентской пошлости. Чеканил — в конце 1980-х это было вопиющим нарушением правил хорошего тона: «У нас была великая эпоха». Собирал под знамена поэтов, музыкантов, визионеров и молодых негодяев, множество из которых просто-напросто спас от неминуемого и бессмысленного разрушения и саморазрушения.
И как в своей поэтической юности, продолжал задаваться вопросом:
От меня на вольный ветер
Отлетают письмена
Письмена мои — подолгу
Заживете или нет?
* * *
Вот и вышла первая посмертная книга Эдуарда Лимонова «Старик путешествует» — «путевые заметки» и событие европейской литературы.
«Первая посмертная» — звучит странно. Логичнее сказать «последняя книга Лимонова», не так ли? Первая она не в том смысле, что предстоят публикации «из архива», хотя, возможно, что и предстоят. Просто России с Лимоновым еще жить и жить, разбираться, перечитывать, передумывать.
«Путевые заметки» — условный жанр. Писатель действительно путешествует— то с тайной любовницей Фифи, то с киногруппой будущего фильма о себе — в пространстве: Франция. Абхазия. Италия. Испания. Монголия. Карабах. Ялта. Бурятия. Но и во времени тоже: вспышки воспоминаний о Харькове 1950-х, Нью-Йорке 1970-х, Париже 1980-х. Это не мемуары: несущей конструкции в книге нет вообще, и в этом смысле «Старик» — очень французская книга. Французы любят жанровую неопределенность полу-эссе, записных книжек, маргиналий. Только во Франции их издают сиюминутные и кокетливые властители дум, те, кого принято любить здесь и сейчас. Лимонов же — тот, кого принято не любить, но не полюбить после этой книги «неслыханной простоты» невозможно.
Роль старика непривычна ему, он одергивает ее на себе, она жмет, как итальянские туфли с пряжками: какая дрянь — эта итальянская «ручная работа». То шагает в шеренгах «желтых жилетов», которым дает целый фейерверк дефиниций: от «санкюлотов» до «жиганов». (Так же он неожиданно разглядит у монгольских пастухов «бандитские рожи ковбоев», нет, гаучо.) То брюзжит, что Люксембургский сад, «лучшее место на земле», уже не тот, «замусорен людьми». «Я ревную Люксембургский сад ко всем этим толпам». И где, кстати, красные рыбки из фонтана Марии Медичи? Неужели съели мигранты?
Но он не просто старик, а старик, ждущий «смерти — главного события в жизни человека». Сколько написано за последние десятилетия напыщенных слов о «телесности», неизменно предполагающих или порнографическое бесстыдство, или бесстыдный физиологизм. Подлинная, беспощадная и целомудренная, телесность — вот она, у Лимонова, подростка в теле, тяжелом, как скафандр водолаза. Это сравнение он услышал некогда от 93-летней Саломеи Андронниковой, роковой женщины эпохи «Бродячей собаки».
Ему больно есть, говорить, пить. Ему стыдно, что он срывается на нотацию парижской официантке. Он печалится, перелистывая в римской квартире книги ее бывшего владельца, покойного ныне художника. Он торопится в ялтинском отеле посмотреть фильмы о Гарри Поттере, ведь он их никогда не видел. В бурятском дацане он покупает «книгу „СМЕРТИ НЕТ“ в обложке вишневого цвета». И эта наивная покупка рифмуется с тем, как Лимонов в предисловии объясняет «Старика»:
Я хотел бы наткнуться и прочитать такую книгу в ранней юности — тогда бы я серьезнее и глубже вглядывался во все, что я замечал в жизни, замечал бы глубже мохнатость зелени, ее буйство, неистовые глаза животных и жажду свободы в глазах женщин.
По контрасту с этой серьезностью последние слова предисловия ошарашивают:
Сейчас вспомнил, как в Монголии лошади любят забираться неглубоко в пруд и стоят стайкой, кругом таким, голова к голове, как будто совещаются.
Что вдруг? Ждешь подведение итогов — а тебе про каких-то лошадей. Ждешь завещания — ведь знал же Лимонов, что это его последний текст — а получаешь в высшем смысле слова бессмысленную книгу, не дающую читателю указаний ни как жить, ни как умирать. А что может быть бессмысленнее поэзии?
Истинный жанр «Старика» — именно что сборник лирических стихотворений в прозе. О юном пугливом киргизе-водопроводчике, открывшем под ванной в московской квартире Лимонова вход в Шамбалу. О столь же юном, зато не робком и пьяном авторе, спасшем от гибели на парижской свалке луковицы гиацинтов, расцветших и ответивших ему многолетней любовью. О корриде: «бык воспринимается как мускулистый и страшный „он“. Тореадор скорее воспринимается как „она“». А вот о Черном море — этот пассаж уже напоминает лучшие в мире сказки Дональда Биссета:
«Ой море!» занималось своим излюбленным развлечением — пугало зимних курортников и аборигенов Ялты, бросаясь на набережную: «Ух! Плюх!» — но непременно до людей не дотягиваясь.
Или вот, по поводу фрески в карабахском храме:
Молодой полуспятивший безумец Христос. И его рыбари. Простые ребята. Только Иуда был непрост, единственный интеллектуал в этой шайке <…> Мне нравится Иисус В красной рубахе, сидящий как Алёша Хвостенко в арабском квартале Goutte d’Or de Paris. И вещающий, вино наливая.
Чудится: еретик Лимонов так утешает себя скорой встречей с поэтом Алешей Хвостенко в небесном граде Париже. Раз уж их земной и любимый Париж ушел под воду, «как град Китеж».
Эссе для публикации из книги «XX век представляет. Избранные» предоставлен издательством «Городец».

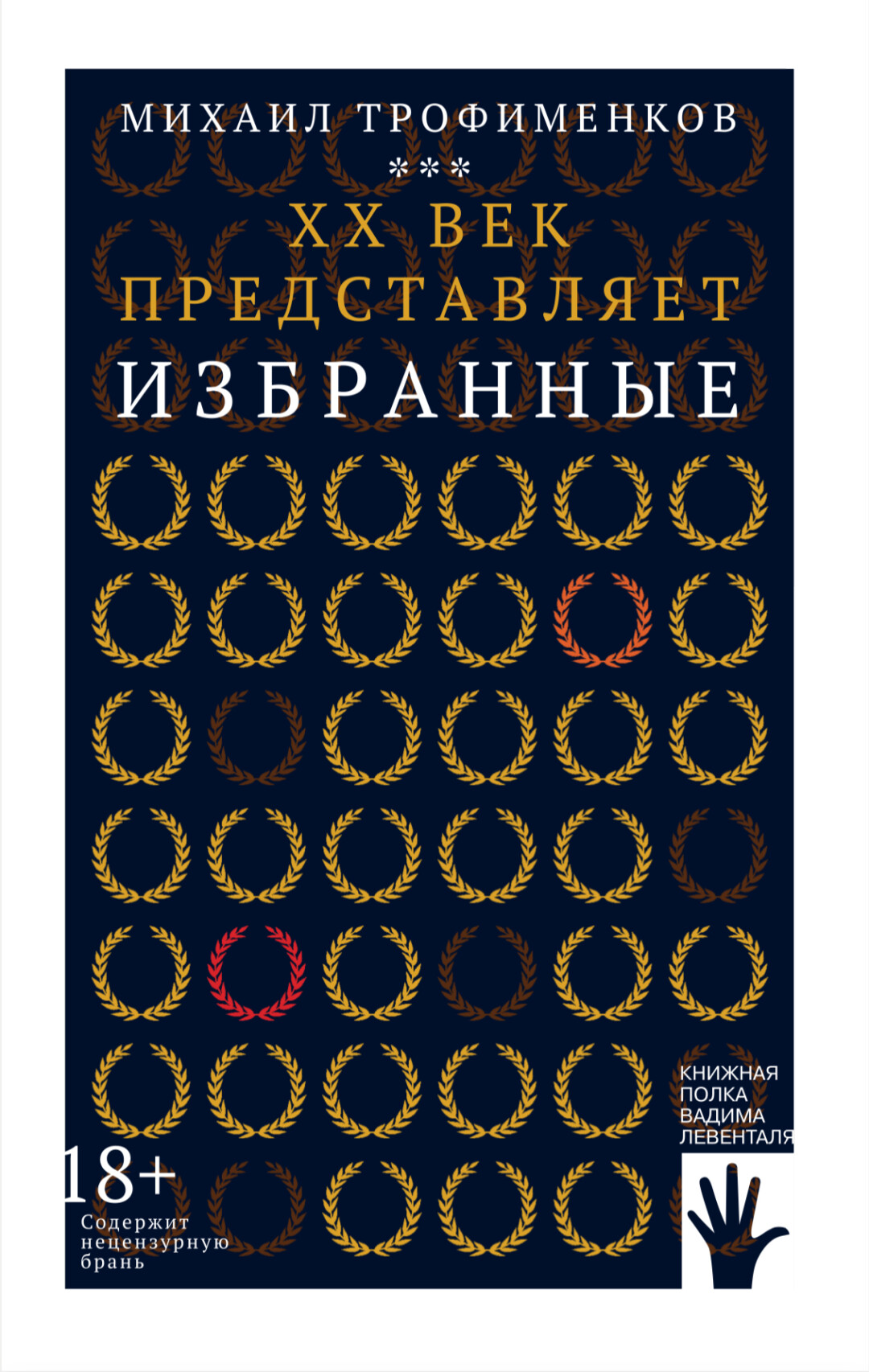


Комментарии (0)