Художница приехала в Выксу напомнить местным про «Родину». Итогом работы новой участницы арт-резиденции стала выставка-инсталляция «“Родина”: закрыто навсегда» с коллажами из фильмов, которые крутили в снесенном кинотеатре, и личными историями горожан, связанными с его воплощениями: собственно местом кинопоказов, а позже дискотекой. Поговорили с Аллой о наследии советской архитектуры, создании искусства без тиражирования самого себя и ностальгии по тому, чего с тобой никогда не случалось.
Почему вы решили связать свою жизнь с искусством?
Художественная практика входила в жизнь постепенно, со временем занимая в ней все больше и больше места. Шажок за шажком. В какой-то момент я осознала, что это самое интересное, что есть для меня в жизни.
Художник – это…
Тот, кто обращает внимание на странные вещи, мимо которых другие люди проходят. Моя территория – это визуальные исследования, то есть работа на стыке художественной практики с антропологией, социологией, культурологией. Отсюда вытекает длительный срок работы над темой, обычно от года до трех лет, многослойный нарратив, различные медиа и проектный формат работы.
Какое самое главное правило в создании искусства?
Время от времени эти самые правила нарушать, не «вставать на рельсы» и самому себя не тиражировать. Хотя рынок требует от художника обратного подхода.
Как вы решили заняться темой памяти?
Это связано со свойством старой фотографии сохранять световой отпечаток лица, вещи, пространства так, что, кажется, до него можно дотронуться взглядом. А на самом деле героев снимков уже давно нет, они ушли, сгинули, растворились во времени. Эта двойственность будоражит.
Как вы попали в Выксу? Решающим фактором стал кинотеатр «Родина» или вы узнали о нем позже?
Давно слышала о Выксе как об одном из мест современного искусства в России, очень хотелось увидеть все своими глазами. Юлия Балдина, выксунка, с которой я работала, посоветовала мне посмотреть сайт «Моя Выкса». О «Родине» узнала там же. Откликнулось то, что нашлось довольно много любопытных фотографий и материалов, связанных с кинотеатром, хотя самого места уже нет.
«Из всех искусств важнейшим является кино», но можно ли говорить, что важнее в сознании людей именно локус кинотеатра, а не фильмы?
Конечно. Кинотеатр – не только место, где показывают кино. Это и генератор социальных связей, территория фантазии, мечты, острых ощущений, приключения, пусть и на экране; окно в другой мир. Кто-то идет в кино на первое свидание, другие – на дискотеку, как это было с «Родиной» в 90-е; кто-то там работает. Место становится отражением личных историй, частью городской и персональной идентичности.
Должны ли сейчас сохраняться подобные памятники архитектуры или для современного зрителя лучше новая архитектура?
Мне кажется, что «Родина» – это не столько памятник архитектуры, сколько памятник эпохи и наследие времен позднего социализма. Решения о сохранении таких построек в городе сложны и должны учитывать много факторов. С другой стороны, процесс обновления – это нормально. Как и сохранение памяти о том, что для людей важно.
Что значит «Родина» для выксунцев?
Это место, которое для разных выксунцев важно по-разному. Для более старших поколений оно является маркером советской эпохи, для тех, кто помоложе, – это лихие 90-е, когда в кинотеатр ходили на дискотеку Антона Дятлова. Для постсоветского поколения – это руина в центре города, ведь здание более десяти лет перед сносом простояло заброшенным. Другой они «Родину» просто не знали.
Какие, на ваш взгляд, чувства благодаря инсталляции могут испытать люди, выросшие после распада СССР и закрытия подобных кинотеатров?
Думаю, что многие могут ощутить на выставке универсальное переживание утраты, неизбежной с ходом времени, задуматься о тех смыслах, которыми мы сами наполняем окружающее пространство, о тонкой грани между жизнью и кино.
Топ-3 ваших любимых вещей из инсталляции?
Большие металлические коробки-контейнеры из-под кинопленки 1960-х или даже более ранние. В таких коробках прокатные копии фильмов распространялись по кинотеатрам, когда кино было пленочным. Обычно представляешь себе фильм в виде проекции на экран, то есть чего-то нематериального. А тут – все наоборот. Фильм парадоксально имеет вес и объем. Очень нравятся черно-белые снимки Выксы 1970–1980-х местного фотографа Михаила Пименова. Также люблю текстильный объект «Конец фильма», который переводит кино в дискурс реального.
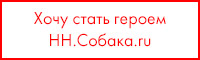















Комментарии (0)