НОВЫЙ РЕАЛИЗМ. ЧАСТЬ 2
Если закрыть глаза и попытаться представить российскую литературную ситуацию тех лет, то отчего-то видится голливудский трэш про вампиров и прочих кровавых уродов: еще пять минут назад выглядевшие приличными молодые люди вдруг бросились рыть могилы, извлекать мертвецов, рвать их на части, разбивать головы и пожирать чужие мозги.
Однако, как ни странно, в те же годы появилась и целая генерация молодых реалистов: Алексей Варламов, Василий Голованов, Владислав Отрошенко, Олег Павлов, Михаил Тарковский, Антон Уткин. Одновременно пришли в литературу Алексей Иванов, Александр Кузнецов-Тулянин, Олег Ермаков, Александр Терехов, которые, в сущности, вполне могли числиться по тому же разряду. Все они работали в жанре плюс-минус реализма, писали о современности, хранили верность поруганной гуманистической традиции и понемногу, исподволь, пытались говорить о таких странных вещах, как вера, почва, Бог.
Тут бы критикам и объявить реалистический реванш. Критик Павел Басинский, как раз тогда писавший об этой генерации, и манифест бы придумал, и все было бы, как подобает в истории литературы. Тем более что реалистов извода девяностых более-менее приняли к либеральному двору, Павлову так даже «Букера» дали. Условие у принимающей и банкующей стороны было, по сути, одно. Ну, в крайнем случае два: никак не выражать своих симпатий к советскому проекту, а лучше выражать антипатию и как-нибудь пореже говорить про всякую там русскую душу, «а то мы знаем, чем это пахнет». Но внятной истории у новых реалистов в девяностые не случилось: они так и остались на периферии читательского внимания. Почему? Те новые реалисты, будучи чуждыми хоть левому, хоть правому радикализму, отбились от патриотического лагеря, объединившегося вокруг журналов «Наш современник», «Москва» и газеты «Завтра», но так и не прибились толком к «Новому миру», «Знамени» и «Новой газете», куда их хотя и допускали, но далеко не в качестве фаворитов. Больно бородатые. Да и время было не самое подходящее для критического реализма. Время больших мыльных надежд.

|
Дмитрий Данилов
|
ДУБЛЬ ДВА
В итоге истории пришлось делать второй круг. К началу «нулевых» для появления очередной реалистической поросли возникло несколько предпосылок. Во-первых, несколько поизносилась идея пресвятого либерализма, зато по поводу советского проекта оформилась некоторая ощутимая общественная ностальгия. Во-вторых, возник запрос на новое государственничество и прочий патернализм, что вскоре выразилось в появлении того самого человека, которого Борис Николаевич, уходя, попросил «беречь Россию». В-третьих, — поверьте, это немаловажно, — выросло целое поколение людей, которые не просто читали Эдуарда Лимонова и чуть в меньшей степени Александра Проханова, но и предпочли их, скажем, Аксенову и Войновичу. То есть харизму, браваду и окрашенный в красно-коричневые цвета нонконформизм предпочли замечательным буржуазным ценностям. Ну и наконец, какому-то количеству читателей захотелось чего-нибудь свежего, не все же потреблять продукт с гнильцой. Помните, к слову, что русская красавица в одноименном романе Виктора Ерофеева всегда несколько припахивала? Это показательно.
Безусловно, те, кто позже стали называться новыми реалистами, ни сном ни духом об этом не ведали. Да и никто тогда об этом знать не мог. Все получилось случайно, сослепу, на ощупь. В 2001 году Шаргунов получил премию «Дебют» за свою первую повесть «Малыш наказан» и передал ее денежное содержание Лимонову, задержанному в Алтайском крае и препровожденному в Лефортово. Между прочим, Лимонову инкриминировали попытку устроить в Казахстане вооруженный переворот.
В том же году появилась повесть «Ногти» Михаила Елизарова, жившего еще в Харькове. Он, впрочем, вскоре переедет по гранту в Германию: прочтя «Ногти», немцы всерьез подумают, что появился еще один писатель про звероватых русских, но когда прочтут роман Pasternak, жестоко обломаются и Елизарова побыстрее выдворят. Роман Сенчин к тому времени уже активно публиковался. Что до Садулаева, Рубанова и прочих, включая меня, никто еще о литературе не помышлял, и все занимались своими личными делами. Появившийся тогда, как я сказал бы, манифестецкий текст прозорливого Шаргунова «Отрицание траура» («Я повторяю заклинание: новый реализм!» — сказал он там) касался, в общем, едва ли не его одного: кроме самого Сергея, отрицать траур, постмодернистское пересмешничество и прочее наследие веселых девяностых было по большому счету некому. Требовалось еще какое- то время для накопления смыслов.
В 2003 году премию «Национальный бестселлер» выиграли молодые писатели Александр Гаррос и Алексей Евдокимов с романом «[Голово ]ломка», и это было уже то, что надо: жестокая и драйвовая история про убийство банкира. Ребята замечательно перетрясли русский язык и буржуазный дискурс и разом выбили целое облако пуха и пыли. Одни чихали от смеха и радости, другие — от раздражения. Одни называли их книжку «глотком свежей крови», другие — «томиком мата». 2005 году разом появились первые чеченские повести Германа Садулаева и его «Радио Fuck», Денис Гуцко получил «Букера» за роман «Русскоговорящий» (знаменательно, что глава жюри Василий Аксенов отказался вручать ему премию, потому что хотел отдать ее своему товарищу Анатолию Найману), плюс ко всему вышел мой первый роман. В 2006-м стал известен Андрей Рубанов.
В 2007 году критики Андрей Рудалев и Валерия Пустовая начали всерьез писать о новом реализме, а критик Сергей Беляков отрицать его существование, что, собственно, и стало окончательным подтверждением того, что он есть. Потому что у нас в литературе вообще принято отрицать как раз то, что уже имеет место.
Поначалу к новым реалистам относили старожилов литературных семинаров в Липках, отбывших там лет по пять каждый: Дмитрия Новикова, Илью Кочергина, Александра Карасева. Они вроде бы тоже работали в реалистическом жанре, отдавали дань традиции и тому подобное. Но в чем-то это была уже устаревшая модель: хронический антисоветизм, характерный для всех вышеназванных писателей, отсутствие нерва социальной раздражительности, да и сама манера поведения в литературе быстро вывели их за пределы новой генерации.
Новых реалистов в том виде, о котором здесь идет речь, характеризовали веселая агрессия, бурное социальное ребячество, привычка вписываться в любую литературную, а часто и политическую драку и вообще желание навязчиво присутствовать, время от времени произносить лозунги, уверенно считать давно поделенное литературное пространство своей вотчиной. Все это, к слову, шло вразрез и с той моделью поведения, которую демонстрировали реалисты призыва девяностых. К советской литературе так или иначе обращались и первые, и вторые. Однако если Алексей Варламов, Олег Ермаков или Михаил Тарковский ориентировались на ушедшего во внутреннюю эмиграцию Пришвина, то Шаргунов апеллировал к Катаеву, Елизаров — к Гайдару. Что до автора этих строк, то в качестве модели писательского (не путать с человеческим) поведения он уверенно выбрал Алексея Толстого. Последовательно Сенчин, Шаргунов, да и я тоже, совершили вещь, году уже в 2000-м совершенно немыслимую: мы начали публиковаться одновременно в «Новом мире» и в «Нашем современнике», в «Завтра» и в «Новой газете», выступать на «Эхе Москвы» и на радио «Радуница», посещать красно-коричневые митинги и либеральные круглые столы. Пользуясь лимоновской терминологией, новые реалисты успешно навязали себя литературной общественности со всем своим багажом. С ними пришлось считаться.

|
Сергей Шаргунов
|
ПО СУЩЕСТВУ
Дело лишь в том, что никакого нового реализма как литературного течения, отвечающего своему названию, не было. Идеальным новым реалистом является лишь один писатель из всех вышеназванных: Роман Сенчин. Он неустанно описывает новую реальность, старается быть предельно честным, фиксирует, документирует, складирует.
Шаргунов? Сергей пишет экспрессивную, порой фантасмагорическую прозу, хотя и отражающую некоторые реальные события. Но разве отнесешь к реализму «Ура!» или тем более «Птичий грипп»? Полноте. Мы же не считаем «мовистские» повести позднего Катаева реализмом? Вот и с Шаргуновым та же история: он пишет «Алмазный мой венец», а не «Сын полка». Елизаров? Тем более. Действие всех трех его романов — Pasternak, «Библиотекарь» и «Мультики» — происходит по большей части в авторской голове.
Данилов? Я называю его стиль ироническим аутизмом. К реализму это имеет такое же отношение, какое имели Добычин или Платонов к соцреализму.
Садулаев? Ну, только если вы не читали «Пургу», AD и «Таблетку», то есть три из пяти его романов. Рубанов успешно мигрировал в жанр социальной фантастики. «Хлорофилия» великолепно наследует Стругацким и советской фантастике вообще.
Да и мой «Санькя» является отчасти антиутопией, а «Черная обезьяна» не имеет к реализму вообще никакого отношения. Единственное, что имело место быть в нашем случае, так это вольное сообщество политически ангажированных молодых людей. Шаргунов, которого вообще на какое-то время занесло в большую политику (и выбросило оттуда за неукротимость нрава), Сенчин, который ходит на все марши несогласных, какие только случаются в столице, Садулаев, который является членом питерского отделения Коммунистической партии, Елизаров, который фраппирует публику своими оглушительно неполиткорректными интервью и, кстати, песнями. Я, наконец.
Фото: Андрей Давыдовский, Сергей Усовик
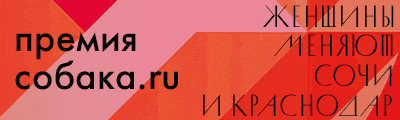
 Конечно, я слышал о новом реализме. Так принято называть творчество группы писателей, которые проявили себя в «нулевые» годы: Захара Прилепина, Романа Сенчина, Сергея Шаргунова, Германа Садулаева, Дениса Гуцко, Андрея Рубанова и других. Самой характерной чертой их творчества я бы назвал социальную и часто политическую заостренность. Наиболее яркими примерами этой заостренности мне видятся романы Прилепина «Санькя» и Сенчина «Елтышевы». К новым реалистам я отношусь хорошо, с некоторыми из них дружу и участвую в совместных проектах, но сам себя я бы не назвал «новым реалистом» — прежде всего из-за отсутствия в моих текстах той самой социально-политической заостренности и ярких героев.
Конечно, я слышал о новом реализме. Так принято называть творчество группы писателей, которые проявили себя в «нулевые» годы: Захара Прилепина, Романа Сенчина, Сергея Шаргунова, Германа Садулаева, Дениса Гуцко, Андрея Рубанова и других. Самой характерной чертой их творчества я бы назвал социальную и часто политическую заостренность. Наиболее яркими примерами этой заостренности мне видятся романы Прилепина «Санькя» и Сенчина «Елтышевы». К новым реалистам я отношусь хорошо, с некоторыми из них дружу и участвую в совместных проектах, но сам себя я бы не назвал «новым реалистом» — прежде всего из-за отсутствия в моих текстах той самой социально-политической заостренности и ярких героев. Новый реализм — это, может, и не самое удачное определение, зато важный поворот в литературе, а именно возвращение интереса к реальности, к жизни. С одной стороны, наследуя старому доброму критическому реализму, а с другой — впитав авангардные приемы, постмодернистские практики и отзываясь на современные реалии, такой реализм вправе называться именно новым. Я не могу себя строго причислить к какому-то направлению. Главное — писать книжки, которые будут хорошими. Поскольку определение «новый реализм» все-таки довольно условное и часто охватывает авторов жанрово и стилистически разных, то новые реалисты, наверное, прежде всего собратья по духу, по настроению, по какому-то стремлению к новизне, твердости, искренности.
Новый реализм — это, может, и не самое удачное определение, зато важный поворот в литературе, а именно возвращение интереса к реальности, к жизни. С одной стороны, наследуя старому доброму критическому реализму, а с другой — впитав авангардные приемы, постмодернистские практики и отзываясь на современные реалии, такой реализм вправе называться именно новым. Я не могу себя строго причислить к какому-то направлению. Главное — писать книжки, которые будут хорошими. Поскольку определение «новый реализм» все-таки довольно условное и часто охватывает авторов жанрово и стилистически разных, то новые реалисты, наверное, прежде всего собратья по духу, по настроению, по какому-то стремлению к новизне, твердости, искренности.
Комментарии (0)