В издательстве «Новое литературное обозрение» выйдет двухтомник «Воспоминания петербургского старожила». Это мемуары Владимира Бурнашева — журналиста и прозаика 19 века, фиксировавшего истории про своих современников от Пушкина, Лермонтова и Грибоедова до Сперанского и Канкрина. А еще — светские слухи и сплетни. Публикуем фрагмент книги — анекдоты, подготовленные Бурнашевым для одного из крупнейших дореволюционных издателей Маврикия Вольфа.
Целомудренный дежурный генерал
В 1831 году два стихотворения барона Егора Федоровича Розена, известного стихотворца того времени, носившего тогда чин гусарского майора и звание старшего адъютанта Инспекторского департамента обратили на себя внимание тогдашнего дежурного генерала Потапова, слишком порядочного человека, чтоб, подобно, например, генералу Арбузову, гневаться на тех из офицеров, которые занимались литературой, и гнать их; но, однако, его превосходительство был ежели не пуританин de facto, то любил щеголять пюризмом нравственности, и потому на него произвели неприятное впечатление одни стихи подчиненного ему штаб-офицера — стихотворца. Вот эти стихи, во-первых, напечатанные в альманахе «Альциона» на 1831 год:
Путешествуя ко гробу,
Где почиет твой супруг,
Позабудь мирскую злобу:
Я вдовице нежный друг!
Покорись же провиденью,
Сокрушенная сестра!
Отдохни под дымной сенью
Постоялого двора!
Нет перины! Нет служанки!
Но отвыкнувший от нег,
Без кровати, без лежанки,
Будет сносен сей ночлег;
Как-нибудь тебя пристрою:
Есть подушка и шинель;
……………………………
Постелю тебе шинель.
Одновременно с этими стихами, в которых одна строка была заполнена точками, как бы вымаранная цензором, что в те времена придавало особенный шик стихотворениям в печати, в маленькой газетке Бестужева-Рюмина «[Северный] Меркурий» явились другие стихи того же барона Розена, майора и старшего адъютанта Инспекторского департамента, а именно:
Подруга муз, Музариона!
Тебе одной на умный суд
Я отдаю мой новый труд:
Скажи, грешна ли «Альциона»? —
Меня за «Левена» винят,
За Баратынского бранят
Санктпетербургские Сусанны;
И сам журнальный мой патрон,
Моим поступком оскорбленный,
Мне нашептал упрек нежданный!
Но если оправдаешь ты
Меня пред троном красоты,
Так до журнальной потасовки,
Еще беспечный весельчак,
Скажу патрону: «Ты чудак!»
Скажу Сусаннам: «Вы плутовки!»…
Случись на беду барона-стихотворца, что в одном из знатных петербургских домов, приходившемся сродни генералу Потапову, было двое молоденьких вдовушек, в обществе прозванных Сусаннами по причине их щепетильной строгости нравов, доходившей до самого чопорного педантизма. Барон Егор Федорович, употребивший название Сусанн, обращенное вообще к лицемерным женщинам, вовсе не имел в виду этих сестриц-пуританок, приходившихся сродни его начальнику, тем более что, живя вовсе не в высшем аристократическом петербургском, а в весьма среднем и наиболее артистическом кругу, барон никакого и понятия не имел об les Suzannes столичного high life’a. Однако последствия всех этих стихов были те, что однажды барон Егор Федорович был призван в кабинет дежурного генерала и тут выслушал, к великому своему удивлению и изумлению, замечания его превосходительства, так или почти вот так редактированные:
— Прежде всего, майор, вы должны помнить, что вы состоите на службе. Мысль о том, что вы поэт, должна быть второстепенною и подчиниться служебным и общественным условиям. Вот два ваших стихотворения, из которых в одном, напечатанном в весьма неприличном листке, называемом «Северным Меркурием», вы делаете слишком нецеремонное обращение к моим родственницам, прозванным в нашем кругу Сусаннами; но это не дает вам, барон, права обращаться к ним в ваших стихах, тем более что вы никогда, сколько я знаю, не были им представлены. В другом вашем стихотворении, напечатанном в вашем альманахе «Альциона», за экземпляр которого, вами мне представленный, приношу вам мою благодарность, вы изображаете такую грязную картину приема на постоялом дворе какой-то вдовицы, для которой вы стелете вашу форменную шинель, что остается удивляться снисходительности вашего цензора, который вымарал из этих стихов всего один стих, а не все.
Барон Розен силился доказывать со своим типичным немецким акцентом и с постоянным восторженным завываньем, что, во-первых, он знатных Сусанн в виду не имел, вовсе не зная их, а что касается до стиха, замененного точками, то это было вовсе не делом цензора, а просто-напросто авторскою фантазиею, которая как бы кокетничала перед публикою цензорскими строгостями, заменяя иногда вымыслом истину. Последнее обстоятельство заставило генерала сказать своему подчиненному стихотворцу:
— На будущее время рекомендую вам, майор, воздерживаться в ваших стихах от этого рода рядов точек и от рассказов грязного свойства, оскорбляющих носимый вами мундир. Употребление же тех собрике, какие в ходу в высшем свете, я положительно вам возбраняю.
Неоткрытый секрет
В 1828 году, когда мне было едва 16 лет, я отцом моим, давно знакомым с Н. И. Гречем, был ему представлен в первый раз. В то время Греч жил еще в Конногвардейской улице близ строившегося тогда Исаакиевского собора. Он обласкал меня, дал читать, помнится, «Les contes de Bouilly» и советовал стараться их правильно переводить и, переведя одну, прочесть перевод их, сделанный на русский язык некогда В. А. Жуковским, и тогда стараться замечать неправильности своей переводной работы. Совет, конечно, разумный; но молоденькому, только что выходившему из детства юноше хотелось испытывать себя в писаниях оригинальных, и вот я однажды принес Гречу толстую-претолстую тетрадь, привезенную мною из Орла и наполненную всякого рода сочинениями, какие я, живя еще с 1826 года в Орле, стряпал под снисходительным наблюдением одного из моих преподавателей, учителя местной гимназии г-на Полоницкого, который сам некогда был учеником того харьковского профессора словесности Рижского, что составил когда-то некую чудовищную «Риторику».
Николай Иванович в тот день, когда я ему преподнес эту тетрадочку, куда-то спешил и не имел времени терять в беседах с таким, как я был, мальчиком, почему сказал: «Положите вашу тетрадь на мой письменный стол: мы поговорим с вами о ее содержании со временем, а теперь мне, извините, недосужно». С тех пор прошел добрый месяц, я у Греча бывал, но о тетрадке справляться не решался как-то, он же никогда об ней не напоминал. Раз как-то, в одну пятницу на вечернем собрании у Марьи Алексеевны Крыжановской привелось мне встретиться с Николаем Ивановичем, бывавшим часто во все другие дни недели, а по пятницам очень редко. Увидев меня, только что едва познакомившегося в этом quasi-аристократическом доме, Греч тотчас апострофировал.. меня словами:
— А, юный поэт!
Я сконфузился и отозвался, что я никогда ни одного еще стиха не написал, да и положительно не умею писать ни белых, ни рифмованных стихов.
— Можно, мой милый, — возразил Греч, — быть поэтом, не будучи стихотворцем, и быть, напротив, стихотворцем, не будучи поэтом. Пример первого — Жан Жак Руссо, пример второго — наш граф Хвостов. Не отнекивайтесь, вы коли не поэт еще, то поэтик, поэтеночек. Намедни Орест Сомов заглянул в ту тетрадищу с примерами разных риторических хрий, какую вы у меня оставили, и сказал: «Должно быть, все писания отрока, воспевающего в прозе природу, восход солнца, луну и всевозможную поэтическую дребедень».
— Ах, Николай Иванович, — воскликнул я чуть не со слезами, — а ведь как я усердно просил вас не открывать…
Я хотел сказать «моего секрета», но Греч не дал мне договорить и вскричал с обычными своими ауськами:
— Да я же Богом вам божусь — тетрадищи вашей и не открывал.
Страсть к корректуре сильнее горести об утрате сына
Известно, что Н. И. Греч был необыкновенно хороший и знающий корректор. Занятие это обратилось у него почти в какую-то болезненную страсть, так что, читая какие бы то ни было книги, журналы или газеты, он никак не мог удержаться, чтоб не взяться за карандаш и не приняться исправлять типографские ошибки, пропущенные корректором.
Когда 27 января 1837 года в Петропавловской церкви совершалось погребение его второго сына Николая Николаевича, умершего на девятнадцатом году жизни, Николай Иванович был жестоко потрясен этою неожиданною потерею своего истинно во всех отношениях очаровательного любимца. В церкви, сидя против гроба, стоявшего на катафалке, Греч постоянно рыдал. Но вдруг он что-то внимательно стал всматриваться в немецкие молитвенные слова, вырезанные на серебряных скобах сыновнего гроба, крытого черным бархатом по лютеранскому обычаю, и, обращаясь к сидевшему за ним Н.И. Юханцеву, распоряжавшемуся похоронами, сказал: «Эх, Николай Иванович, как это вы недосмотрели: безграмотный чухна гробовщик сделал три ошибки в буквах при вырезке молитв на скобах гроба моего дорогого Николеньки!»
Стихи в альбом графа Д. И. Хвостова
Известно, что граф Д. И. Хвостов не давал в Петербурге никому покоя своими стихами, стараясь ловить повсюду знакомых и незнакомых, умоляя их послушать его новые вирши, которые он величал стихами. Познакомясь у А. Е. Измайлова с Владиславом Максимовичем Княжевичем и узнав, что он пишет стихи и написал поэму «Летний сад» в полусерьезном, полушутливом тоне, граф упросил его хоть одним отрывочком с ним поделиться и написать собственноручно этот эпизод в его, графа, альбом. Нечего было делать, и шутливый, хотя и имевший всегда, как и все братья его, серьезный вид, Княжевич вписал в альбом графа свои стихи под названием «Чума Летнего сада»:
И вот беда! Куда деваться?
Идет творец случайных од!
Он ищет, с кем бы повстречаться,
Прочесть Расинов перевод.
Друзья и морщатся, и хвалят,
В глаза зевают и хулят;
Ничем охоты не убавят:
Поэт неумолим читать.
Замечательно, что граф сам не уразумел, что это его вернейший портрет; но нашлись добрые люди, растолковавшие ему суть дела, и он велел переплетчику вынуть из альбома этот листок, сожженный им в камине, а В. М. Княжевич с тех пор избавился от докучливых приглашений графа на его несносные так называемые «литературные» вечера.
Граф Клейнмихель и постройка риз церковных
После пожара Зимнего дворца в 1837 году, когда император Николай Павлович возложил на дежурного генерала Клейнмихеля (тогда еще не графа) всю реставрацию обгоревшего великолепного здания, составлявшего собою памятник архитектурного искусства бессмертного в истории зодчества графа Растрелли, Петр Андреевич (Клейнмихель) проявил столько усердия, что государь возлагал на него разного рода поручения и по внутреннему устройству дворца, им воссозданного, как Феникс, из пепла.
Между прочим, на Клейнмихеля была возложена постройка новых белых глазетовых с золотою парчою риз для придворного причта, лишившегося большей части своей ризницы во время пожара. Но при этом государь, строгий соблюдатель церковных древних православных обрядностей, хотел, чтобы ризы были достаточно длинны и, на точном основании церковно-канонических уставов, непременно покрывали спереди и сзади ноги и обувь священнослужителей. Николай Павлович обстоятельство это поставил на вид Клейнмихелю, приказав, чтобы непременно ризы по росту каждого священника придворного штата были достаточно длинны и вполне закрывали бы оконечности ноги.
Клейнмихель всю постройку этих новых риз возложил на состоявшего при нем в то время также крайне исполнительного и деятельного полковника Кривопишина, занявшегося, разумеется, этим делом со всевозможным усердием и старанием, на какой конец беспрестанно брал мерки с членов причта и сильно хлопотал о верной пригонке церковных одежд. Когда риза на главного протоиерея была готова, то Кривопишин принес ее в кабинет генерала Клейнмихеля.
— Мне надо удостовериться в достаточной длине этой ризы, — заметил аккуратный Петр Андреевич. — Ты, Кривопишин, одного роста и одной корпуленции с протоиереем, так, знаешь, примерь-ка ее на себе, а я посмотрю.
Пять минут спустя полковник наружно преобразился в православного священнослужителя в полном облачении. Клейнмихель осмотрел его сверху донизу, заставил тихо раза два пройтись и заметил, что сзади пятки видны немного, что несогласно с высочайшею волею.
— Это по причине шпор, ваше превосходительство, — силился доказывать Кривопишин, — священники шпор не носят, так и пяток у них не будет видно.
— Вздор, вздор! — воскликнул генерал.
— Ваше превосходительство, — вопил почти сквозь слезы полковник, — извольте показать кому хотите, и все скажут, что это только от шпор происходит.
Они с Кривопишиным разговор этот имели подле двери в приемный зал, и Клейнмихель, не терпевший, как все деспоты-самодуры, возражений, разгневался на своего фаворита и, быстро отворив дверь, толкнул Кривопишина в залу, полную публики, и крикнул:
— Ну, пусть все видят твои пятки!
Лица, бывшие в числе просителей в это время в зале, говорили мне, что они усмотрели не только пятки, но и икры бедного полковника в ризе, исправлявшего должность подвижного костюмерного манекена и убежавшего во всю прыть.
12+
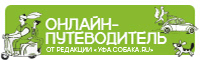





Комментарии (0)