СЛЕДИ ЗА СОБОЙ, БУДЬ ОСТОРОЖЕН
КАК САМОЦЕНЗУРА СТАЛА ТАКИМ ЖЕ ВНУТРЕННИМ ОРГАНОМ КАЖДОГО РОССИЯНИНА, КАК ПОЧКИ, ПЕЧЕНЬ И СЕРДЦЕ.
В последнее время принято считать, что привычка себя редактировать — замалчивать, сглаживать, приукрашивать и обесценивать — увлечение журналистов, работающих на государственные СМИ, за что «режимников» освистывают коллеги на вольном, казалось бы, выпасе. И вот тут хотелось бы разобраться. Самоцензура сделала лоботомию не только свободе слова: теперь за политкорректность выдают жгучее желание перестраховаться как бы чего не вышло. Шоковой терапии подверглись жизненноважные чувства, мысли и душевные качества, которые, как показало вскрытие, давно атрофировались за ненадобностью. Так страшно сказать правду — про себя прежде всего — что лучше промолчать. Под шумок не только медиаработники, но и все прочие чиновники и дизайнеры вернулись на исходную позицию к любимому русскому вопросу: тварь я дрожащая или право имею? И что теперь делать? За всех ответил историк Андрей Рывкин. Иллюстрации Соня Румянцева

 |
|
ЭТО Я, ЦЕНЗУРОЧКА
Как у любого провинциала, мое любимое место в Нью-Йорке — Таймс-сквер. В целом там достаточно неуютно: тысячи пешеходов, перманентная пробка и самые туристические магазины «на лоха». Все это создает впечатление, что ты находишься в стае рыб, одинаково движущихся по строго заданному направлению. Вокруг — океан Нью-Йорка с легендарными акулами Уолл-стрит, китами Мэдисон-авеню и пестрой, но совсем мелкой рыбешкой Бруклина, места обитания original-хипстеров — тех, кого так тщетно пытается копировать наша квелая молодежь. Пять минут на Таймс-сквер, и ты понимаешь, что эта площадь — лучшее отображение отношений человека и медиа. Ведь именно там, куда бы ты ни повернулся, невозможно скрыться от информации. По глазам бьют бегущие ленты биржевых индексов и новостных агентств, лицо озаряют мегаватты рекламы, и ты превращаешься в маленькую песчинку, которой очень ярко пытаются что-то продать. ВXXI веке модель Таймс-сквер перекинулась через океан, и теперь ее можно наблюдать всюду, где есть электричество. Чтобы оказаться в безостановочном потоке информации, больше не нужно находиться на Манхэттене: человечество и так живет в мире медиа, от большой политики до рекламы в метро. Мы потребляем информацию чаще, чем еду. Последние несколько лет именно медиа, а не какие-нибудь там родители, воспитывают нас и наших детей. Многих это ужасает, и они готовы сражаться с компьютером и телевизором, закрывая амбразуру медиапулемета своим телом и, как правило, скудным умом. Другие впитывают каждый доступный поток, смотрят и слушают все подряд, а затем образуют свой информационный канал, чаще с фотографиями котят. Кому-то медиа помогают, кому-то вредят. В чем им не откажешь — они идеально отражают психическое состояние общества.
Cамо слово «медиа» — слишком широкое понятие, чтобы его в чем-то обвинять или регулировать. Медиа бывают разными, от детских передач до детской порнографии. Внимать стонам «медиа развращают наших детей» — означает верить сказкам потных депутатов (всех парламентов мира), которым нужны голоса глупого и озлобленного электората. Их джихад против информации — это борьба с собственной неполноценностью, так и появляются сказки про «наших детей», которых можно спасти «только выключив телевизор».
Информация, медиа — это не мировая закулиса. У информации есть автор. Это может быть спичрайтер, редактор новостной ленты, сценарист, идеолог, Руперт Мердок, блогер, журналист, проповедник, контент-менеджер и вы, именно вы, когда нажимаете кнопку tweet. Предсказания о трансформации человека в источник информации сбылись. С недавнего времени ретрансляторы помещаются в карман. Смартфон — наш пропуск в медиасообщество. То самое, которое «развращает и лжет». Правил в этом сообществе становится все меньше, но важнейшая его составляющая никуда не уходит. Цензура, во всех ее проявлениях, растет пропорционально медиа, а с появлением социальных сетей она стала касаться каждого. Цензура применима к информации для аудитории — от друзей в «Фейсбуке» до телезрителей федерального канала в прайм-тайм. В тот момент, когда автор решается выдать информацию — будь то твит, запись «Вконтакте» или ЖЖ, фильм, книга, телепрограмма или даже эта статья, — он сталкивается с главным цензором — самим собой. Это происходит с каждым, кто хоть как-то заботится о том, как он и его произведение будут восприниматься аудиторией. Самоцензура — это нормальный аспект отношений между автором и аудиторией. К сожалению, в нашей стране эти отношения заходят в тупик.

 |
Теленожницы ГВ 2008 году в эфир НТВ не вышел анонсированный фильм Андрея Лошака «Теперь здесь офис» — о том, как строительный бум разрушает архитектурное наследие Москвы и Петербурга. Журналист заявил, что руководство НТВ решило убрать его из сетки во избежание исков со стороны бизнесменов и конкретно жены экс-мэра Москвы Елены Батуриной. |
 |
Всеволод Емелин Весной после событий на Манежной площади я написал резкое стихотворение для портала «Соль», после чего меня вызвали в прокуратуру для профилактической беседы. Показали жалобу, в которой некто усмотрел в моем тексте признаки разжигания национальной розни. Это был крючок, на который я до сих пор подвешен: неизвестно, возбуждено уголовное дело или нет. У меня после этого инцидента возникло чувство самоцензуры. Дело в том, что иногда я бываю нетрезв и ненадежен. Теперь же я сам себе цензор — стараюсь садиться за компьютер только трезвым. Интернет в плане распространения информации вещь масштабная. Колонку про Манежку тут же перепостили, и она разлетелась по всей Сети. А так у меня выходят книжки по три тысячи экземпляров, и никому до них нет дела. |
ИЛИ ЦЕНЗУРА, ИЛИ НИЧТО
Есть области, где самоцензура — доминирующее явление. Главной из них является публичная политика. Нет страны, где слова политика не расходятся с делом, а красноречие не лавирует меж кострами народного гнева и интересами привилегированных групп. В России это гротескно и смешно, где-то качественно и убедительно, но так или иначе это присутствует всюду, где кто-нибудь в пиджаке обещает, что именно он(а) сделает все, как вы хотели.
Вершиной медиа-Эвереста остается телевидение. Сколько бы ни говорили о его смерти, о безоговорочной капитуляции перед Интернетом, на ТВ придумываются новые форматы, создаются программы, шоу и сериалы, которые можно смотреть на дачном телевизоре с плохо отрегулированной антенной или на айпаде по сетке 3G. В России телевизор остается главным источником информации. Разумеется, это делает его инструментом власти. «Ящик» у нас всегда был под строгим контролем. В первую очередь это касалось политики.
Когда я работал на ТВ, у нас была поговорка: «Зачем говорить то, что могут запретить?» Это касалось нехороших фактов о хороших людях и партиях. Это то, что принято называть политической цензурой, — и наш обыватель, исключая непонятно свободные 1990-е, с этим явлением знаком очень хорошо. У нас не было какого-то одного строгого дядьки в темном костюме, который старательно вымарывал любое упоминание власти в негативной коннотации. У нас таких было восемьдесят человек, то есть каждый член нашей команды. Я в их числе. Темный костюм был только у ведущего; у нас были джинсы, макбуки и отвратительные суши на первом этаже останкинского склепа. Внутри каждого из нас сидел жесткий цензор, который лучше всякого телефонного звонка сверху подсказывал, что можно, а что лучше не надо. Самоцензура работала эффективнее любых цензоров извне. Политики фильтровали свои речи, я фильтровал речи ведущего, а монтажная комната фильтровала речи политиков, которые слишком заговаривались. Такие есть всюду, но если в России их могут спасти на стадии ножниц, то за рубежом прокол в эфире может означать конец карьеры.
Тем не менее политик — это не только агенда. Это живой человек. С недавних пор мы знаем, что некоторые руководители нашей страны любят гаджеты, а другие — отдых на дикой природе. Так или иначе медиа подхватывают тщательно выстроенный образ «человечности» политика и таким образом приближают его к аудитории. У нас так было далеко не всегда.
Наберите в YouTube «интервью Брежнева французскому телевидению». 1971-й год, Париж, Леонид Ильич сидит на диване, бодро шутит, хвастается механическим портсигаром, который лимитирует выдачу сигарет, и с гордостью рассказывает о своих внуках французскому журналисту — разумеется, потомку белогвардейцев. Потом посмотрите любое выступление или интервью Брежнева на советском ТВ: Леонид Ильич — робот-коммунист. Как-то странно. Иностранной аудитории он кажется абсолютно нормальным и естественным, говорит о самых понятных вещах с юмором и самоиронией. Для советской же аудитории Брежнев — абсолютно неживой образ, страшный, анекдотичный, исключающий любую ассоциацию с человеком. Брови и персональное торможение — больше, помоему, он ничем не запомнился. Что было плохого в том, чтобы рассказать советской аудитории о своих внуках и похвастаться портсигаром? Это не гостайна и уж совсем не диссидентство. Ничего антисоветского в этом не было. Но почему-то на Запад шла вменяемая и человечная картинка, а для внутреннего потребления — монструозная. Что заставляло Брежнева не улыбаться, не рассказывать о семье и не говорить о своей жизни нормальным тоном? Думаю, это можно объяснить тем, что в России привыкли обожествлять власть и все человеческое ей должно быть чуждо. Даже будучи обаятельным дедушкой, который пытается бросить курить, в «Мордоре» надо проецировать образ тьмы, иначе никто не испугается. В любом случае Брежнев — политическая фигура, каким бы естественным он ни представал перед западной аудиторией. Его самоцензура обоснованна, у нее есть четкие предпосылки. Если с политикой кое-как понятно, то почему все остальное работает по тем же законам? Почему эта пресловутая «человечность» не находит отражения на наших экранах? Говорить, что наше телевидение полностью посвящено тщательно отредактированному восторгу от каждого совещания правительства, не совсем правильно. Правительство и его эффектные заседания — это всего лишь политические новости.
Самоцензура присутствует там, где политикой и не пахнет. Она может касаться чего угодно: кто-то не хочет открыто высказываться против религиозных организаций, кто-то не будет называть национальность преступника, кому-то не нужны проблемы на работе, и твит про начальника-идиота так и останется неопубликованным. Причин ограничивать свою свободу слова бесконечное множество, и многие из них совершенно обоснованные. Тем не менее в России самоцензура засела гораздо глубже любых социальных и политических тем. Она проникла во все сферы жизни и нашла свое грустное отражение в том, что мы смотрим, читаем, слушаем и говорим.

 |
Договорился В феврале журналист Дмитрий Губин лишился работы на «Вести FM» после критики экс-губернатора Петербурга Валентины Матвиенко: «Губер-правительница в рекордные сроки один из блистательнейших городов мира из “окна в Европу” превратила в “очко сельского сортира”». Руководство радиостанции заявило, что увольнение вызвано «стилистическими разногласиями». По словам Губина, работодатель заявил, что сказанное было оскорблением, а не конструктивной критикой. |
 |
Наталья Синдеева Думаю, самоцензура возникает от страха за семью и желания сохранить работу. Руководителям медиа лучше бы не иметь такого чувства, а если оно появляется, не демонстрировать его команде. На телеканале «Дождь» у нас не было случая, чтобы мы не взяли сюжет по соображениям самоцензуры. Хотя наверняка у каждого сотрудника возникает внутренний вопрос: «А ничего, что мы затрагиваем эту тему?» Не нарушать закон — постулат на шего журналистского коллектива, плюс считаться с законами этики. Для меня самоцензура и этика — разные вещи. |
ТРУДНОСТИ ПЕРЕВОДА
Если раньше слово «сериал» ассоциировалось с чем-то исключительно латиноамериканским и скучным, то теперь это фильмы, которые интереснее тех, что идут в кино. В последнее время хороший сериал заменяет собой толстый роман и блокбастер и к тому же длится годами. Сериалы стали самым массовым и необыкновенно доступным видом высокого искусства. Мы живем с героями сериалов, мы видим, как они растут, как меняется их жизнь. Это один из феноменов современных медиа: информационные потоки сократились до размера СМС, а кино научилось держать зрителя в течение семи лет (с первой до последней серии Lost, например). Многосерийные фильмы настолько вошли в нашу жизнь, что вопрос «Какие сериалы ты смотришь?» стал популярнее вопроса о музыкальных пристрастиях.
Мне всегда было интересно, почему наши девушки гораздо больше ассоциируют себя с героинями сериала «Секс в большом городе», нежели с героинями российских сериалов, даже схожих по концепции. Почему им ближе Кэрри Брэдшоу с подружками? Первое, что приходит на ум, — безостановочное стремление россиянина к красивой жизни. Всем хочется выключить слякоть и на полчаса окунуться в нью-йоркские cocktail parties, которыми изобилует сериал. Но мне кажется, секрет его популярности в другом. «Секс в большом городе» — это история о женщинах, которые совершают ошибки, плачут, болеют, влюбляются и мало что понимают в жизни. Там нет идеальных героев, положительных или отрицательных. Там есть одинокие и несчастные, с редкими проблесками радости люди. Просто живые люди. Просто как мы.
Это то, что наши медиа стараются не показывать никогда. Российские сериалы вы сами видели. Наш зритель смотрит западные развлекательные медиа, несмотря на абсолютно другой антураж, ведь вряд ли большинство поклонников сериала живут в upper-middle-class Нью-Йорке. Вряд ли они одеваются в тех магазинах, едят в тех ресторанах и спят с теми людьми, что показывает Sex and the City. Зритель ассоциирует себя с героинями потому, что нью-йоркская колумнистка оказывается правдоподобнее российской «доярки из Хацапетовки» или какого-нибудь честного мента. Доярок не множат «Вконтакте», не смотрят по вечерам на компьютере и не обсуждают в кафе и на работе. Они созданы без тени рефлексии и уходят без тени воспоминания. В сознание проникают именно американские сериалы. Не только Sex and the City — Mad Men, Friends, Dexter и десятки других скачиваются, переводятся, озвучиваются энтузиастами и выкладываются в свободный доступ. Причем огромное количество из них далеки от российской аудитории. Может ли наш зритель, например, понять всю мощь ударов Mad Men по расизму, шовинизму и ксенофобии Америки 1960-х? Вряд ли. Тем не менее сериал смотрят не отрываясь, потому что если рекламного агентства с Доном Дрейпером у нас нет, то любовницы, болезни, аборты, гибель близких, предательство и слезы у нас есть. Мы люди, что в Америке, что в России.
Если говорить об общечеловеческих ценностях, как Брежнев — о внуках, это поймут всюду. Там об этом почему-то говорят. У нас — почти никогда. Безусловно, любая российская реальность мрачна. Выйдя из самого дорогого ресторана, оказываешься в самой настоящей грязи. Проблема наших масс-медиа в том, что они представляют своего героя либо в ресторане, либо в отделении милиции. У нас снимают сериалы об олигархах и их любовницах, о пробивных провинциалах и советских семьях, но почти никогда — о людях. Из-за этого все оказывается настолько неправдоподобным, что олигархов путают с ментами, бандитов — с героями комедийных сериалов, а девушек — друг с другом. Если появляется сериал о людях, а не очередной набор клише, он производит эффект разорвавшейся бомбы. Показателен пример сериала «Школа». Я смотрел всего несколько серий: к сожалению, мне совсем неинтересна тематика плохих районов. Тем не менее меня сериал поразил, как и всех остальных, кто его видел. Впервые это был массовый продукт, который старался максимально не врать. Показать настоящих людей, с настоящими, пусть и грязными, проблемами. На российском ТВ случилось чудо: у актеров тут же появились естественные интонации. Учитель казался учителем, школьник — школьником. Никто не говорил старым языком (это когда в сериале 2010 года тинейджер говорит языком 1960-х, потому что редактору сценария шестьдесят лет и последние тридцать пять из них он ненавидит молодежь). С персонажами сериала «Школа» себя может ассоциировать каждый, кто учился в школе. Такого почти не было, ведь если сравнить «Школу» с большинством отечественных фильмов про начальное образование, окажется, что последние пятьдесят лет наша страна отчаянно запрещала говорить правду о массовом опыте советской/российской школы. Стоит ли напоминать, что, когда сериал Валерии Гай Германики появился на наших экранах, его тут же попытались запретить.

 |
Нарушенная реклама В марте демонтировали рекламу «Московских новостей» с цитатами из классиков. Например, Тютчева: «Русская история до Петра Великого — одна панихида, а после — одно уголовное дело». Руководству газеты сообщили, что билборды пострадали от погодных условий. |
 |
Анна Козлова Катализатором самоцензуры становится провинциальное сознание. Я сталкивалась с самоцензурой продюсеров. Приношу сценарий, а они говорят: «Тут девушку изнасиловали, мы такое себе не позволим, чернуха». У них страх чернухи, а раз реальность не дает ей радужных альтернатив, то единственным противовесом становится фальшивый образ жизни, неестественные разговоры и поддельные эмоции, которые мы наблюдаем в отечественных сериалах. Так и появляется не существующий в России средний класс, который якобы живет в двухэтажных квартирах и радуется. Продюсеры смотрят на процесс как на бизнес: какую бы конфетку вы ни принесли, ее превратят в говно, адаптируя под формат. |
ПРИРОЖДЕННЫЕ САМОУБИЙЦЫ
Внутренние и внешние запреты привели к рождению главной российской культуры — трэша. Пластмассовым телеведущим и картонным героям российской эстрады невозможно противопоставить что-то искреннее без риска оказаться в общей корзине. Против Петросянов и Волочковых работает исключительно трэш-террор: безостановочный поток грязи и мата, в котором ктото видит искусство, а кто-то — просто бескультурье. Явление вполне логичное, каждое действие рождает противодействие: если тщательно не пускать в эфир все человечное, появятся те, кто покажет все животное. Уровень лжи и кастрации российских медиа привел к появлению бесчисленного количества энтузиатов, которые, желая создать альтернативный контент, вступили на безопасную тропу дерьма, животного рычания и грязи.
Зритель ассоциирует себя с героем, только когда есть что-то, за что можно ухватиться. С прилизанным коммерсантом из рекламы сотового оператора у нас нет ничего общего. С фальшивыми сверхправильными родителями из очередного сериала — тоже. А пасторальных девочек, которые пишут в «Твиттер» о красивом закате, вообще никто за людей не держит: живого в них меньше, чем в резиновой кукле, с которой возможно хоть какое-то взаимодействие. От отсутствия натурального люди звереют, и появляется трэш.
Лет десять назад, когда субтильные мальчики и недорогие девочки начали двадцать четыре часа в сутки блеять о гламуре как о цели и смысле жизни, пространство взорвала группа «Ленинград». Это была даже не альтернатива, а полная противоположность всему, что поглощала российская массовая аудитория. Люди гораздо больше ассоциировали себя с пьющим хулиганом — лирическим героем группы «Ленинград», чем с кем-либо еще на российской сцене. Маленькие менеджеры хотели бухать, жаловаться на бытовые отношения с женщинами и орать матом — то, что им всегда запрещали делать в офисах и совсем не показывали по ТВ. А теперь появился парень, который все это делает. То есть свой человек.
Здесь сыграл гений Шнура, который сумел противопоставить пластмассовой картинке — животную, настолько же фальшивую и разработанную под определенную аудиторию. Трэш, хоть и в несколько более цивилизованном виде, оказался в ротации, и спутать его с холеным медиаобразом современного россиянина стало совсем невозможно.
С появлением социальных сетей трэш стал некой игрой для образованных программных директоров федеральных каналов и прочей интеллектуальной публики, которая днем делает репортажи о ткачихах и Стасе Михайлове, а вечером отрывается, выкладывая клипы и песни Альбины Сексовой, Намбавана и прочих малоизвестных широкой публике звезд трэша. Кроме животного, эта культура ничего не открыла. Трэш стал альтернативой фальшивому мейнстриму, но он все равно не справляется с главной задачей: ни сопереживания, ни тем более ассоциации он не вызывает. Наш трэш, хоть и живее языком, и без розовато-голубоватых оттенков российских медиа, похож на реальность не более, чем Екатерина Андреева в программе «Время» — на живого человека. Просто по-своему.

 |
Театральные хроники На Камчатке местная администрация в 2010 году попыталась запретить спектакль Театра драмы и комедии «Новогодние приключения Золушки», в котором король переводит стрелки часов на час назад, чтобы Золушка не ушла с бала. Незадолго до этого по предложению Дмитрия Медведева в России было сокращено количество часовых поясов и несколько тысяч жителей ПетропавловскаКамчатского вышли на улицу в знак протеста. Оказавшаяся в театре помощница губернатора усмотрела в постановке сатиру и доложила кому следует. |
 |
Владимир Познер В России сегодня плохая ситуация со свободой слова. Нет цензуры — есть колоссальная самоцензура. У Евтушенко было стихотворение: «Сосед ученый Галилея был Галилея не глупее. Он знал, что вертится Земля, но у него была семья». Когда люди опасаются, что сказанное ими может повлечь неприятности, это ненормальная ситуация. В таком случае свобода слова сильно ограничена. |
СЕТЬ, В КОТОРОЙ Я ЖИВУ
Social media — главные медиа XXI века. Наконецто каждый из нас смог стать писателем, журналистом, кинокритиком, режиссером, политиком — кем угодно. По правилам, как только ты нажал send, ты уже создал контент. И то, что ты там решил не писать, — это и есть самоцензура. Как только сети начали использовать наши настоящие имена, каждый стал своим персональным телерадиопечатным каналом, который вещает для себя и своих друзей. У кого-то это получается лучше, что сразу видно по количеству друзей или followers, у кого-то хуже — и их фотографии цветов и закатов остаются неизвестными широкой публике.
Самой быстрой и медиапригодной социальной сетью является «Твиттер». Если он у вас есть, вряд ли на вашей странице стоит ограничение на прочтение записей. Все, что вы пишете, публично. Это выгодно отличает «Твиттер» от «Вконтакте», или «Фейсбука», или любого другого сервиса, где можно поставить «замок» и ограничить свою аудиторию. Всюду существует понятие «имидж». На Западе с ним знакомы гораздо лучше, чем у нас. Там, где за «твиттер» можно вылететь из парламента (как конгрессмен Энтони Винер), знают цену разглашению лишней информации. Другое дело, что это не мешает им оставаться людьми даже в ста сорока символах. У @kellyoxford более двухсот тысяч подписчиков. Она не голливудская звезда, не комик и не политик. Она — веселая домохозяйка. Ее твиттер — это не оценка политических событий, не скандалы с интригами и расследованиями. Она пишет о своих детях, о том, как они вместе смотрят телевизор. Делится ироничным взглядом на быт современной американской семьи. Такие, как она, пишут о том, как болеют и побеждают, радуются и живут обычные люди. Разумеется, в мире безостановочной информации. Чаще это весело, порой — грустно. Таких, как она, читают сотни тысяч человек, и им сопереживают, ведь каждый из нас сталкивается с этими проблемами, и ничего постыдного в них нет.
Русскоязычный сегмент социальных сетей как ничто другое отражает комплексы и внутренние запреты нашего общества. У нас под запретом не то, из-за чего могут выгнать из конгресса, а то, из-за чего могут подумать, что автор — живой человек. Нас абсолютно не волнуют запреты на такие темы, как расизм, ксенофобия и прочие виды ненависти. Их в наших сетях хоть отбавляй — от фашистских комьюнити в ЖЖ до некоторых твиттеров, за которые в «нормальных странах» принято получать срок. Вопросы морали и терпимости — последнее, что ограничивает нашу аудиторию в Сети. Как гениально заметил кто-то: твиттер — это когда хочется написать СМС, но некому. Что же пишут
в СМС, обращенных в пространство, а не кому-то лично? Русскоязычный «Твиттер» — лучшее доказательство безостановочно работающей в наших головах самоцензуры. Если почитать топов — самых популярных российских пользователей, создается впечатление дешевого сериала, который разыгрывается в текстовом формате перед нашими глазами. В России «Твиттер» превратился в огромное сообщество, объединенное скукой на работе и безостановочным стремлением показать себя беспроблемным, успешным индивидом, котрого однажды обязательно зафолловит президент.
Инструмент, который помогает в революциях, в России превратился в унылый чат. Все обязательно читают двух-трех партийных телеведущих, десять очкариков из медиаагентств и нескольких звезд российского шоу-бизнеса, осознавших всю важность «обратной связи» с аудиторией. Еще есть твиттер-свадьбы, твиттер-разводы и твиттер скандалы. Прямо как на НТВ. Проекции себя настоящего не существует. Есть какой-то набор клише, который из жизни перетекает в социальные медиа. Кто-то в перерывах между ресторанами зол на правительство, кто-то в перерывах между правительством зол на рестораторов. Тем не менее реальных проблем как будто нет. Мы как будто не люди, а образы, даже в «Твиттере».
Рекомендую фильм «Экспорт Реймонда» (Exporting Raymond). Это документальная лента от создателя популярнейшего американского сериала Everybody Loves Raymond — Фила Розенталя. Он повествует о трудностях адаптации американского проекта под нашу аудиторию (сериал «Воронины» на СТС). Фильм гораздо смешнее самого сериала, но главное, что в нем есть, — великолепное отображение отношения российских зрителей к самим себе.
Больше всего Фила Розенталя поразил эпизод на съемочной площадке. По сценарию главный герой должен проснуться оттого, что жена во сне случайно ударила его ногой ниже пояса. В давно снятой американской версии это выглядит вполне предсказуемо: человек просыпается, скатывается с кровати на пол и, скрюченный от боли, выпучив глаза, тяжело дышит, глядя на жену и не понимая, что с ним произошло. В российской версии актер также скатывается с кровати, а потом начинает подпрыгивать на корточках, словно танцуя «яблочко». Розенталь, который присутствовал на съемках первой серии, делает несколько дублей — каждый раз актер подпрыгивает. В итоге американский режиссер не выдерживает: «Неужели ты прыгаешь, когда тебя бьют ниже пояса? Это же такой универсальный символ боли!!!» — вне государственных границ, языка и культуры. Реакция на такую боль может быть только одна — что у русского, что у американца, — и это совсем не бодрые прыжки. «Почему ты не можешь показать, что тебе больно?» Актер молчит. Как любой мужчина, он знал, что это такое — получить ниже пояса. Тем не менее на экране он этого не показывал. Личное — это личное, а на экране всем должно быть хорошо.
СУМЕРКИ. РАССВЕТ
Российское медиапространство — это один большой комплекс неполноценности. Другого у нас и быть не может, ведь наше поведение продиктовано желанием казаться не такими, какие мы есть. Это касается практически всех сфер жизни, и перечисление займет журнал от корки до корки. В качестве ярких повседневных примеров можно привести российских мужчин, которые пытаются казаться Рэмбо, будучи забитыми собственными женами и матерями. Культура «пацанства» и первородный страх показаться слабым видны всюду, от подъезда до телеэкрана. Грешат этим не только мужчины. Сколько женщин стремятся казаться роковыми красавицами утром в метро? Откуда эти бесконечные каблуки, ужимки и понимание жизни, которое любого относительно вменяемого человека ввергает в ужас? Над нашими гендерными ролевыми играми давно смеются все более-менее вменяемые иностранцы, которым удалось пожить в России. Смеются потому, что никто не видел настолько неуверенных в себе граждан ядерной сверхдержавы. Наши запреты вырастили целые поколения закомлексованных мужчин и травмированных женщин, внутри которых бесперебойно работает механизм, запрещающий говорить о самом значимом — о себе. Никто не хочется признаваться в том, что им больно и что у них нет сил двигаться вперед. В том, что их бросили. В том, что есть что-то, с чем они не в состоянии справиться. У нас принято держать все в себе. У нас нет культуры обсуждения проблем и взаимопомощи. Рассказал о проблеме — слабак. Пошел к психотерапевту — слабак. Ищешь помощи — ничтожество.
Наш человек постоянно напоминает себе, что он среди врагов. А всем остальным — что у него все хорошо. Неразглашенные проблемы съедают его изнутри, но внешне он должен пытаться проецировать спокойствие и уверенность. Нужно ли говорить, что из этого получается плохой анекдот, прямо как сюжет типичного российского сериала?
Может, стоит как-то умерить нашу самоцензуру? Заткнуть этого внутреннего цензора и показать себя человеком — ненормальным, закомплексованным и ранимым, таким, какие мы есть на самом деле? Может, стоит начать с себя — со своего твиттера или ЖЖ, а потом вдруг это перекинется на другие медиа и мы сможем не только снять свой Mad Men, но и стать людьми?
Если медиа так или иначе будут воспитывать нас и наших детей ,может, стоит сделать их человечнее? Несколько капель искренности не испортят океан фальши. Наоборот, он будет казаться правдоподобнее, и мы будем похожи не на зацементированных мудаков, а на живых людей. А там и рейтинги появятся, вместе с лайками.
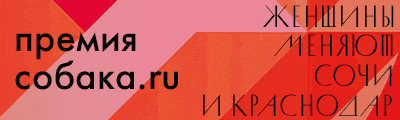

 Я родился в Ленинграде. Когда мне было десять лет, наша семья эмигрировала в США, где я провел почти все 1990-е. На заре 2000-х вернулся в Россию. Изучал историю в бессмысленном СПбГУ, работал во всех видах СМИ, кроме радио. Писал тексты для политиков федерального значения. Умирал от скуки. Ушел в отсебятину. Остаюсь гибридом двух непохожих культур, из которых одну презираю, а к другой пока не имею отношения."
Я родился в Ленинграде. Когда мне было десять лет, наша семья эмигрировала в США, где я провел почти все 1990-е. На заре 2000-х вернулся в Россию. Изучал историю в бессмысленном СПбГУ, работал во всех видах СМИ, кроме радио. Писал тексты для политиков федерального значения. Умирал от скуки. Ушел в отсебятину. Остаюсь гибридом двух непохожих культур, из которых одну презираю, а к другой пока не имею отношения."
Комментарии (0)