Нас, правда, в контексте данного номера интересует другое. Как Херст, знакомый массовому читателю как визуальный, растиражированный медийными посредниками бренд (телекартинка "про акул в формальдегиде"), художник, вряд ли прикасающийся к произведениям "своими руками" – то есть использующий реди-мейды (готовые объекты, массово или кустарно произведенные), умудряется столь мощно авторизовать, персонализировать столь откровенное техно, стерильное и бесстрастное? То есть из реди-мейда создать не просто хенд-мейд, но, так сказать, психо-хенд-мейд? Попробуем разобраться.
Прежде всего в том, что все же складирует Херст в этих своих знаменитых прозрачных боксах? С предметным содержанием все вроде бы ясно. Это – спе- циально препарированные и помещенные в формальдегид туши акул, овец, просто рыбок. Или – аскетическая техноначинка операционных, прозекторских, офисов. Это – внешняя сторона. На самом деле Херст складирует нечто, российскому человеку до боли знакомое. А именно – экзистенциальную тоску. Так что даже самые шокирующие вещи, вроде пресловутой акулы в формальдегиде (инсталляция "Невозможность смерти в сознании живущего") нас не испугают. В конце концов, они – о жизни и смерти, о жизни после смерти и смерти при жизни. "Холстомер" не о том же?
Как же тематизируется эта экзистенциальная тоска, каким способом? Ноу-хау Херста не в формальдегиде и не в таксидермии, конечно же. Ему удалось дать в ощущениях сам церемониал протекания времени. Для этого все и задумано – и неслыханно технически сложные конструкции-аквариумы с температурным и прочими режимами, и простые кубы-витрины. Херст показывает: есть простое, текущее время бренного человека, есть время библейское, есть геологическое, есть временной церемониал химических процессов и массы других временных режимов. Есть, наконец, и бесконечные попытки преодоления времени. А есть еще длительность – категория, по Бергсону, постижимая не с помощью рассудка, а сугубо интуитивно. Вот с таким материалом работает Херст. Вот для чего – для ныряния в различные временные потоки – все эти боксы и аквариумы.
Время визуализировано – оно может быть овнешненным, почти желеобразным, или разреженным до вакуума, безвоздушно-стерильным. Но оно – его присутствие, церемониал его протекания или попытка его остановки – всегда визуально (иногда почти тактильно) ощутимо. Собственно, это столкновение различных временных потоков и придает вещам Херста шокирующую остроту.
И уж совершенно новые контексты создает графическая среда, в которой живет инсталляция. Херст впервые "открывается" – выставляет рисунки. Множество рисунков самого разного рода, от детских каракулей и машинальных ритмических начертаний до идеограмм и мгновенно высвеченных в сознании готовых проектов, от служебной эфемерии до озарений. Рисунки поданы в своем экзистенциальном качестве – не только как постоянное сопровождение жизни, но как способ проживания жизни. Это – кардиограмма личного, художнического сердца, его "личное время".
Вернемся к нашей теме. Как Херсту удается, непосредственно не "прикасаясь" к своим объектам, клинически, лабораторно имперсональным, создавать не просто хенд-мейд, а объект предельно персонализированный, буквально маркированный личным присутствием? Да так. Херсту не нужно строгать, красить и выпиливать. Он время авторизует, "своими руками" разводит временные потоки, держит руку на пульсе. Такой вот психо-реди-мейд.
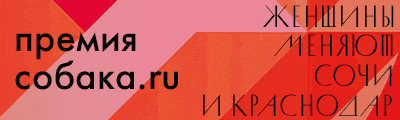
Комментарии (0)