Один из самых влиятельных персонажей художественной сцены, чью фамилию московские концептуалисты позаимствовали для термина «Бакштейн-функция», организовывал первые выставки российского актуального искусства за границей и больше тридцати лет дружит с Ильей Кабаковым. А сейчас комиссар биеннале, которая пройдет в октябре, думает только о деньгах.

Почему в крупных выставках, в том числе в биеннале, все времяучаствуют одни и те же российские художники: Осмоловский, Пепперштейн, AES+F?
Во-первых, я не занимался отбором проектов, для этого есть куратор, Жан-Юбер Мартен. И потом, биеннале – это серьезное событие, в нем участвуют уже состоявшиеся художники. Для молодняка есть биеннале молодого искусства «Стой! Кто идет?» и тому подобные проекты. Насколько я знаю практику, так происходит везде: в Венецию, в Сан-Паулу или в Стамбул приглашают обычно тех, про кого уже понятно, кто они такие. Поэтому никаких потрясающих художественных открытий на биеннале не происходит. Но, даже выбирая из известных художников, можно взять тех или других, кто больше или меньше соответствует взглядам кураторов. Простор для фантазии у них большой. А молодежь пусть подрастет еще, проявит себя. Тогда пожалуйста.
А в чем ваша задача как комиссара?
Я организатор и художественный руководитель, мои функции больше административные. Слежу за конструкцией биеннале в целом: за основным проектом, спецпроектом, параллельной программой, площадками, на мне переговоры, отношения с Минкультом. Вот это моя миссия. Сейчас у нас получилось свыше ста выставок, почти в два раза больше, чем в прошлый раз. Все хотят участвовать. К тому же наши кураторы – серьезные, уважаемые, известные люди. Ведь биеннале умеют делать очень немногие, человек двенадцать-пятнадцать в мире. Для этого нужны особые навыки и знания, надо много ездить и смотреть, что происходит в Африке, Азии, Латинской Америке, чтобы биеннале могла отражать мировые тенденции. Все, кого мы приглашали в 2005-м, а потом в 2007 году, соглашались, а это люди, скажем так, из первой десятки, и их согласие дорогого стоит. Ведь к Москве у многих неоднозначное отношение.
Россию по-прежнему считают страной диких медведей?
Скорее это нам нравится, чтобы они так считали. Они-то как раз говорят, что русская культура является хоть и периферийной, но частью европейской культуры. Есть имена, которые они знают: Толстой, Достоевский, Солженицын, Пастернак. Другое дело, что у нас совсем нет однородности, свойственной Европе. Я как-то ехал из Москвы в Питер на машине. Отъезжаешь от города на пятьдесят километров, и такое начинается! Какие-то Средние века. Все остальное мы сами себе придумали, потому что русские художники очень озабочены поиском собственной идентичности. Пытаются понять, кто мы: европейцы, не европейцы?
Поэтому все так всполошились, когда Алексею Беляеву-Гинтовту дали премию Кандинского?
И поэтому тоже. К тому же сейчас такой момент, когда все еще находится в стадии становления: политическая система, институты гражданского общества, этика взаимоотношений. Я не испытываю никакой ностальгии по Советскому Союзу, но, скажем, в 1970–1980-х все было гораздо яснее, существовали зрелые элементы гражданского общества. В 1990-е они, по сути, были уничтожены. Возникли совершенно другие структуры – социальные, экономические, политические. На этом фоне роль искусства, его судьба выглядят довольно проблематично. В период холодной войны искусство и в России, и в мире было частью больших и сложно устроенных идеологических систем. Художник был важной общественной фигурой. В 1990-е годы победил капитализм, восторжествовала массовая культура, и мы все стали частью индустрии развлечений. Изменилась и роль художника. Совершенно потеряло смысл понятие «великий художник». Когда я общался с Кабаковым, у меня было физическое ощущение великого человека. Это были люди с позицией, которые могли говорить с тираном на ты. Сколько было разговоров, когда Пастернака исключали из Союза писателей! Это было так важно. А сейчас человек пишет стихи – кого это интересует?!
Почему вы начали заниматься искусством?
В 1965 году я поступал в университет на физфак, но не поступил. Говорят, что лиц моей национальности туда не принимали и нам давали специальные «еврейские задачки», которые было невозможно решить. Поэтому я пошел в Институт электронного машиностроения. Кстати, в тот же год в МГУ поступал и Борис Абрамович Березовский, мы с ним вместе готовились, но его тоже не взяли. Потом я работал в «почтовом ящике» – закрытом военном институте, а через год ушел и стал заниматься модной тогда социологией. У нас в то время было несколько подпольных кружков, где юноши с гуманитарными интересами занимались философией и неофициальным искусством. С Ильей Кабаковым, который был старше меня, я дружил с 1973 года, а с моим ровесником Аликом Меламидом мы знакомы еще с восьмого класса. И я был чуть ли не единственным, кто общался и с тем, и с другим поколением. Когда началась перестройка, мы стали делать выставки, первую – в марте 1987 года. Это была первая выставка Клуба авангардистов. Потом были проекты за границей, в Западном Берлине и сразу пять в Америке. Такого никто не смог повторить.
Вы чувствуете, как экономическая ситуация влияет на современное искусство, особенно на биеннале?
Хотя Министерство культуры нас всячески поддерживает, но все равно сейчас гораздо сложнее. Я теперь думаю только про деньги. Вот сейчас говорю с вами, а сам думаю про деньги. Всегда что-то происходит с этими выставками, пока их готовишь. В них все время что-то дорожает, а не дешевеет почему-то.
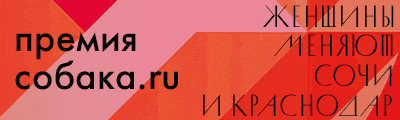
Комментарии (1)