Носитель и крупнейший знаток петербургской идентичности, известный всему городу культуртрегер сумел силой своего авторитета и тотальной любви петербуржцев к Сергею Довлатову организовать в сентябре 2016 года фестиваль в честь 75-летия писателя. Теперь «День Д» станет ежегодным — грядущий фестиваль памяти Довлатова отметит пятидесятилетие «второй оттепели», о которой Лев Лурье поговорил с Татьяной Толстой.
Лев Лурье: Ты приезжала на наш прошлогодний фестиваль «День Д». На этот раз мы решили посвятить его времени «второй оттепели» — переходному от хрущевской оттепели к застою. Это период между 1964-м — Хрущева сняли и 1968-м — советские танки вошли в Прагу. И это то время, когда Довлатов еще надеялся сделать карьеру советского писателя. Первая оттепель началась в 1956 году, с XX съезда партии, и закончилась примерно к 1962-му. Наступило общее разочарование Хрущевым: сельское хозяйство было в полной жопе, армию сократили грубейшим образом почти в три раза, численность сотрудников КГБ уменьшили, интеллигенцию оскорбили, да и партийные работники чувствовали себя неуверенно. Прежде, когда при Анне Андреевне Ахматовой кто-то хулил Никиту, она отрезвляла критиканов: «Вы знаете, я хрущевка!» А теперь недовольство охватило интеллигенцию, рабочих, колхозников, армию и даже членов Президиума ЦК КПСС — потому что Хрущева уже откровенно несло. Сам по себе он был страшный человек, для него отправить на тот свет кого-то ничего не стоило. Он поучаствовал в убийстве Сталина, потом расстрелял Берию, быстро раскидал всех тех хорьков, что его окружали. Хрущев был спонтанный, непредсказуемый, с придурью — в Трампе очень много от него. Сейчас Никита Сергеевич непрерывно общался бы с народом посредством твиттера. При этом абсолютно бескорыстный — говорил своей дочери: «Рада, не надо намазывать так много сливочного масла на хлеб, люди живут бедно». Я в свое время снял документальный фильм о Хрущеве.
Татьяна Толстая: Да, а как называется?
Лев Лурье: «1956 — середина века».
Татьяна Толстая: Я найду в YouTube, посмотрю.
Лев Лурье: Когда Хрущева скинули, никто по этому поводу не горевал. Дедушка мой, античник Соломон Лурье, написал в это время лингвистическую статью про то, как фонетически зависят друг от друга согласные, и проиллюстрировал ее сочетанием «Щ» и «Б» — «Хрущ бежал». К власти пришло коллективное руководство в виде мало кому известных трех рыл — Брежнева, Косыгина и Подгорного, никто больше не строил лихорадочно коммунизм, было совершенно очевидно сказано сверху, «шо не надо этих перехибов».
Татьяна Толстая: Я помню свое детство на даче в Кавголово: вокруг говорили, что Хрущев велел сдать всех коров государству и вырубить все частные яблоневые сады. Почти все люди так и сделали, но мы свои яблони не тронули, а соседи сберегли корову. Родители рассказывали, что сначала в газетах были заголовки про «царицу полей — кукурузу», а когда стало понятно, что кормить скот одной кукурузой нельзя, и в рацион животных стали добавлять бобы, появилась новая популярная фраза: «Царица полей кукуруза и ее верные пажи — бобы». Но зато в 1956 году мои родители плавали вокруг всей Европы на корабле «Победа»: отплыли из Ленинграда, посмотрели все столицы и вернулись через Одессу. Представить себе такое всего лишь за год до этого было немыслимо — в 1955-м еще все сидели. А тут они купили себе дорогие билеты и поплыли! Неслыханно! Невероятно! И при этом мой папа был беспартийным.
Лев Лурье: И моя мама, молодой доктор наук, беспартийная, к тому же еврейка, точно так же плавала тогда вокруг Европы — может быть, на одном корабле с твоими родителями. Поехала она без больших сложностей, но очень скоро такие возможности закончились, и больше ее в серьезную заграницу никогда не выпускали. Тань, ответь мне на странный вопрос: ты когда-нибудь верила в то, что можно построить коммунизм?
Татьяна Толстая: Никогда в жизни.
Лев Лурье: А вот у меня были сомнения. Я все-таки не был до конца уверен, что это невозможно. И вообще в эти годы у многих еще были иллюзии про «комиссаров в пыльных шлемах» (из песни Булата Окуджавы «Сентиментальный марш». — Прим. ред.) и про то, что светлая идея была исковеркана Сталиным. В 1961 году мне было одиннадцать лет и я проводил лето в Одессе, где узнал о докладе Хрущева на XXII съезде КПСС — про то, что нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме. А я ведь слышал, что коммунизм — это рай, где всем все дают бесплатно. Умом я понимал: «Врут, наверно. Но все же, а вдруг…».
Татьяна Толстая: А я даже в детстве была абсолютной, лютой антисоветчицей. У моего отца еще мог промелькнуть романтизм 1930-х, помню его фразу: «В метро одни люди стоят на эскалаторе, идущем вверх, а другие бегут по нему — вот они пройдут в коммунизм». Я же ненавидела тогдашнюю школу, где мы должны были на переменах ходить по рекреации парами по кругу, взявшись за руки, а завуч однажды вопила на меня, когда я, второклассница, пришла на урок с бантом красного цвета, а не положенного коричневого. Учиться я не хотела, а хотела только читать. И поскольку в школе нам все время говорили про советскую власть, именно в ней я и видела источник зла и коммунизма. У меня с детства было ощущение, что никому из учителей верить нельзя, а тот, кто талдычит про светлое будущее, — тот сволочь и душитель.
Лев Лурье: Со мной отец был очень осторожен, он не ставил точки над i, хотя, несомненно, знал, где их поставить.
Татьяна Толстая: А откуда появилось понятие «вторая оттепель»?
Лев Лурье: Я думаю, что оно возникло в моих разговорах с Любой Аркус (Любовь Аркус, основатель киножурнала «Сеанс» и благотворительного фонда «Выход в Петербурге». — Прим. ред.). Вторая оттепель — время, когда вдруг снова ненадолго наступила относительная свобода. Нефть из Западной Сибири еще не потекла за границу, принося режиму нефтедоллары и отбивая всякое желание что-нибудь менять. Выходят «Мастер и Маргарита» и «Театральный роман» Булгакова. Лидеры проката 1967 года — «Кавказская пленница», а 1968-го — «Бриллиантовая рука» — великие русские фильмы. Тарковский, Панфилов, Полока, Мотыль, Герман, Авербах и много чего еще, что напрямую не относилось к отрицанию советской власти, появилось именно тогда. А потом постепенно, с 1967 года, начинаются сумрачные явления: «Шестидневная война», которую у арабских союзников СССР выиграл Израиль, приводит к возрождению государственного антисемитизма, разрыву дипотношений с еврейским государством. Затем душится «Пражская весна» и происходит, как сказали бы приятные нам люди, филологи, — смена парадигмы.
Татьяна Толстая: Я в это время абсолютно не следила ни за какой политикой, годы с 1964 по 1967-й полностью прошли мимо меня. А вот в 1968-м я поступила в Университет на отделение классической филологии и хорошо помню август того года. Мы сидим на даче, в Прагу только что вошли советские войска, отец пытается поймать по радио заглушаемые западные голоса и говорит: «О идиоты! Все пропало! Все пропало!» А я думаю: «А что пропало?» Я вообще ничего не знала. Он мне объяснил в двух словах про события в Чехословакии, но меня они никак не заинтересовали — я была влюблена, и меня трогало только это. И еще книжки я все время читала. А вот когда я уже пришла учиться в Университет, стала знакомиться с разными интересными людьми, старшие товарищи мне сказали: «Ты беги, там на Невском еще есть какие-то книги серии «Литпамятники» в свободной продаже — скоро перекроют все и ничего стоящего не будет вообще». А у нас дома огромная библиотека, тысячи томов, но я побежала, что-то там купила. И действительно, количество интересных книг в магазинах стало быстро иссякать и скоро совсем иссякло. Ну а потом одна девочка с английского отделения поехала на языковую практику в Англию и не вернулась. Что тут началось! Собрали весь факультет, стали орать на студентов: «Почему вы не предупредили, что Маша влюбчивая?!» Вышел декан Балахонов, сделал страдальческое лицо и сказал, что некоторые студенты ведут себя совершенно непристойно, они в библиотеке берут читать Ницше. Комсомолец. А читает Ницше! На филфаке! «У-у-у-у-у, как тут у вас все устроено», — подумала я.
Лев Лурье: А у тебя на факультете была масса людей, которые понимали, что происходит. На твоем отделении преподавали двое отсидевших — Аристид Доватур и Александр Зайцев.
Татьяна Толстая: Да. При этом Аристид Иванович ходил на демонстрации 7 ноября, и мы все не могли понять зачем — ведь отсидел уже свои восемнадцать лет. А вот боялся.
Лев Лурье: Да, потому что страх перед начальством должен быть. Но у него еще была идея, что все равно стало лучше, чем было при Сталине: ведь ему разрешали преподавать вам древнегреческий и латынь, а это уже само по себе является добрым деянием.
Татьяна Толстая: Это безусловно так.
Лев Лурье: А я хорошо помню 1967 год. Я оканчиваю школу — 30-ю физико-математическую. На всех партах нацарапано слово The Beatles, отовсюду звучит песня «Королева красоты». И главный танец на выпускном вечере — шейк. Я уже читал, довольно много, родительский «Новый мир», но меня начинает перетягивать к себе «Юность» — в этом журнале блестящая подборка Василия Аксенова, включая повесть «Затоваренная бочкотара», я считаю, вершину из того, что он написал; рассказы «Случай на молочном заводе» Валеры Попова — про то, как шпион залез в творог, «Я с пощечиной в руке» Владимира Марамзина, «Пенелопа» Андрея Битова. Я ходил в клуб «Дерзание», где был окружен молодыми поэтами и прозаиками. Не было ощущения потолка, казалось, что у нас будет возможность пройти по тому же пути, по которому уже прошли старшие братья. Но мы попали под танк. Как только мы окончили школу, поменялось все: мы готовились к одному времени, а попали в совершенно другое. И это не способствовало успеху моего поколения — большинство моих сверстников погибло в «Сайгоне». Из-за вот этой ситуации безвыходности уехал Довлатов.
Татьяна Толстая: А вот точнее, из-за чего он уехал?
Лев Лурье: Он уехал потому, что не хотел и не мог быть Виктором Кривулиным.
Татьяна Толстая: А что значит быть Кривулиным?
Лев Лурье: Это значит быть вторым Хармсом — заниматься творчеством с полным пониманием, что оно не будет иметь ни малейшего отношения к твоему финансовому положению. Ты как-то просуществуешь, не помрешь, у тебя будет много друзей, даже поклонников, ты станешь локальной знаменитостью, глубокого презирающей писательское сообщество. И так и будешь жить всю жизнь.
Татьяна Толстая: Да, Довлатову было бы сложно выжить, не превратившись при этом в дворника. Потому что стать печатающимся писателем было для него невозможно.
Лев Лурье: Но при этом проза, которая появилась после 1967-го, — это Солженицын, Довлатов, Войнович, Шукшин, Владимов, Трифонов. Ты, кстати, как относишься к деревенщикам, к Василию Белову, например?
Татьяна Толстая: Не люблю. Это этнографический музей, что на площади Искусств. Я в детстве очень любила в него ходить: там в натуральную величину представлены какие-нибудь застывшие в красивых одеждах калмыки в своем чуме. Я очень бегло Белова прошла, не вчитывалась. Вот знаешь, запах чуешь. И этот фальшивый запах мне не нравится. Ай-люли, ромашки эти. Или вот Федор Абрамов. Все вокруг его хвалили, а мне было неинтересно — он, может, и почище других, но это все равно придуманный русский дух.
Лев Лурье: Но ты не читала у Белова книгу «Бухтины вологодские завиральные», там нет никаких ромашек — а только безнадежность колхозной жизни.
Татьяна Толстая: Да мне скучно было читать про колхозную жизнь! Я Серебряный век любила. Я готова посочувствовать судьбе колхозника, но мне не нравится эта апология крестьянина. К тому же деревенщики все это писали, чтобы потом попрекнуть тебя невниманием к судьбам народа.
Лев Лурье: А Шукшин?
Татьяна Толстая: А Шукшин совсем другой. Он и не деревенщик. Он такой хитрый, посадский. Но, возвращаясь к Довлатову, должна сказать, что он совершенно волшебным образом действует на людей.
Лев Лурье: Для русского человека, читателя, который ассоциирует себя с его героем, которым, конечно, Довлатов сам и является, очень важно, что он не выиграл — не стал лауреатом Сталинской премии, секретарем Союза писателей — и что слава пришла к нему после смерти. Ну что он там получал в Нью-Йорке — две-три тысячи долларов в месяц. Это не был писатель, который богаче своих читателей.
Татьяна Толстая: Ты совершенно прав. В нем народ узнавал себя. То, что он был пьяница, — это очень разогревало сердца. То, что неудачник, — тоже. От всех его текстов просто веяло неудачей. Причем у него было такое благородное неудачничество.
Лев Лурье: Довлатов людей очень точно чувствовал, у него был необычайный слух на устную речь. Он оправдывал очень много в человеческой натуре, но не оправдывал плохой вкус.
Татьяна Толстая: Да, это верно — он не оправдывал. И тем не менее это не объясняет его массовой популярности. Потому что иначе надо было бы считать, что в массах есть некий камертон, понимающий разницу между хорошим вкусом и плохим.
Лев Лурье: Я думаю, как для шестидесятников родником с живой водой были «Двенадцать стульев» и «Золотой теленок», так для поколения наших детей и внуков таковым является Довлатов.
Татьяна Толстая: Ты прав только отчасти. Потому что он был кумиром 16–17-летних детей, которые еще не успели ничего начитать. И они просто прильнули к нему — потому что он писатель легкого вхождения.
Лев Лурье: Ну, поскольку я школьный учитель, то могу тебе рассказать, что читали дети и какие у Довлатова были конкуренты! Для первого выпуска нашей 610-й школы самыми важными были Лимонов и Селин, книги которых я все время отлавливал и выкидывал в окно. Еще всегда были популярны братья Стругацкие.
Татьяна Толстая: Это беда нашей технической интеллигенции. Стругацкие — это просто подделка. Если ты натурального не видел, то этот пластик ты поначалу не сможешь отличить от чего-то настоящего
Лев Лурье: Ну и пусть будут, все-таки в Стругацких есть традиционная для русской литературы гуманистическая идея.
Татьяна Толстая: Непонятная идея. А ты пробовал сейчас их перечитать? Я попробовала. Это бессмысленная болтовня. Там просто синтаксис вопиет.
Лев Лурье: У меня в семье в свое время был конфликт: мама разделяла книги на существенные и несущественные и читала только первые, а папа считал, что нужно читать и то и другое. Несущественное — это Стругацкие и Оруэлл, а существенное — Толстой, Ремарк или Хемингуэй. Как и любой еврейский мальчик, я скорее мамин сын, поэтому для меня Стругацкие — несущественные. На самом деле реальная трагедия заключается в том, что мы с тобой сейчас разговариваем, а никто этого не прочтет. Никому это не интересно. Не вижу вокруг людей, которые бы читали рецензии. Пресса ушла.
Татьяна Толстая: Да все ушло.
Лев Лурье: В 1990-е, когда я вышел работать в первое свое средство массовой информации, рекламоноситель Pulse, тамошний редактор Дмитрий Губин объяснил мне: «Лев, успех заметки прямо пропорционален количеству физических лиц, оскорбленных на один квадратный дециметр текста». И это абсолютная правда. Если в городе происходит сорок культурных событий, то тридцать восемь из них говно. Это просто статистика, так и должно быть. И тогда те два, которые стоит смотреть, привлекают внимание всех СМИ. И никто не объясняет читателю, почему оставшиеся тридцать восемь — говно.
Татьяна Толстая: Нужно как можно более субъективное мнение. Это мое глубокое убеждение. Сначала это будет страшно возмущать, а потом сформируется имидж того автора, который это мнение поставляет. Но он должен не конъюнктурно писать правду.
Лев Лурье: Должен никогда не обслуживать приятелей, никогда ни в какой мафии не состоять. Очень жаль, что теперь нет Виктора Топорова.
Татьяна Толстая: Да! Жалко, что его нет, хотя он был порой невыносим. Зато он выходил и оскорблял сразу всех, от души. Это очень освежало.
Лев Лурье: Щука существует для того, чтобы карась не дремал.
Татьяна Толстая: Да, а сейчас карась спит.
Лев Лурье: Пару лет назад Дмитрий Быков выступил с колонкой про то, как прохладно он относится к полуклассику Довлатову, а к его неумеренным поклонникам — и вовсе с отвращением, потому что они — суррогат советской интеллигенции. В общем, его послушать, так и не писатель Сергей Донатович вовсе.
Татьяна Толстая: Не писатель — это Михаил Веллер. Мне как-то рассказывали девочки, купавшиеся в озере, как они покакали прямо в воду, не желая вылезать на берег. Они поплыли, а какашки плыли вслед за ними. И как они ни ускорялись, им было не убежать от этого говна. Вот так же Веллер плывет следом за Довлатовым. Раз уж мы ходим и трогаем палкой Веллера, то нужно сказать, что он литератор, а не писатель. Это тонкая грань. И литератор — это не оскорбление. А вот Довлатов в высшей степени писатель. Он очень хотел быть настоящим писателем. И, по-моему, так и не поверил, что стал им. Слава пришла к нему сразу после его смерти. А славой что-то проверяется. Не все, но что-то. Во всяком случае, для автора. Расскажи, как тебе удалось поставить ему памятник в прошлом году? Это же просто невероятно, чтобы в наше время, в нашем городе вдруг появился памятник эмигранту.
Лев Лурье: Ну, не то чтобы это мне удалось. Я знал, что есть уже готовый памятник скульптора Вячеслава Бухаева, у которого в молодости даже был опыт общения с Довлатовым: во время установки скульптуры Ломоносова на станции метро его имени они были самыми молодыми и кидали жребий на спичках — кто побежит за водкой, потому что эскалатор еще не работал и бежать было непросто. Жребий выпал Довлатову, и всю эту историю он позднее описал в рассказе.
Отлил монумент из бронзы на свои деньги предприниматель Дмитрий Никитин, потому что его сын ничего не читал, а потом вдруг открыл книжку Довлатова и с тех пор стал читающим. Сначала власти говорили нам, что установить памятник невозможно, потому что еще не прошли требующиеся тридцать лет со дня смерти увековечиваемого. Но мы с моими коллегами по организации «Дня Д» Настей Принцевой и Денисом Рубиным решили гнуть свою линию: «Вы даже памятника поставить не можете, а нам запрещаете парад фокстерьеров!» Затем меня пригласил на встречу тогдашний советник губернатора, а теперь депутат Госдумы Сергей Боярский и рассказал, что в связи с неудовольствием в городе, возникшим вокруг наименования моста в Петербурге именем Кадырова, он выступил на съезде «Единой России» и предложил перед выборами в Госдуму сделать что-то, что будет способствовать созданию положительного имиджа партии. Лидер «Единой России» Дмитрий Медведев его поддержал, губернатор Полтавченко с премьер-министром согласился. И за три дня до открытия фестиваля нам позвонил Боярский и сообщил, что все решено. Будет вам памятник. С дикой скоростью его установили, приехали вдова и дочка Довлатова, мы разрезали ленточку. Было страшно приятно. Памятник не производит отвратительного впечатления. Вот он стоит уже почти год на улице Рубинштейна и смотрится там как родной: приятный контраст изобретателю радио Попову и Чернышевскому на постаментах. Потому что он очень человечный — видно, что с похмела мужик вышел. И всем это нравится.
Фото: Данил Головкин
Стиль: Полина Апреликова, Роман Кянджалиев
Визаж: Евгения Сомова
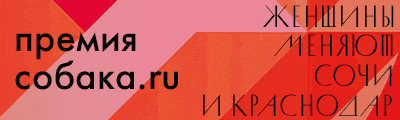



Комментарии (0)