В издательстве музея Garage вышла книга Катарины Лопаткиной о Василии Пушкареве «Правильной дорогой в обход». Благодаря его работе на посту директора Русского музея в запасниках удалось сохранить картины художников, чье творчество не принималось советским партийным руководством. Среди них — Василий Кандинский, Александр Тышлер и, конечно, Казимир Малевич. Публикуем отрывок из нон-фикшена, как Пушкарев отказался выдать работы Малевича для передачи их заграницу.
Малевич как твердая валюта
На сегодняшний день в собрании Русского музея хранится самая большая в мире коллекция произведений Казимира Малевича — 101 живописное полотно, 35 листов оригинальной графики, а также печатная графика, фарфор, макеты архитектонов. История этого собрания – отражение истории бытования искусства авангарда в СССР, эталонный нарратив.
Первопроходец и проповедник беспредметности Казимир Северинович Малевич умер в Ленинграде 15 мая 1935 года в возрасте 56 лет. После смерти его тело было перевезено в Москву, кремировано, а прах захоронен в подмосковном селе Немчиновка. Семья художника в марте 1936 года решила передать его произведения в Русский музей – на временное хранение. Вероятнее всего триггером такого решения стала напечатанная в феврале 1936 года в газете «Правда» статья Владимира Кеменова «Против формализма и натурализма в живописи». Кеменов писал: «Своими истоками формализм в советской живописи связан с новейшими течениями буржуазного западноевропейского искусства. Как ни отличаются одни формалисты от других — в зависимости от того, влияет ли на них Сезанн или Ренуар, Матисс или Дерен, — их внутреннее родство сказывается в антиреалистическом понимании сущности искусства: живопись, по их мнению, должна изображать не предметы действительности, а внутреннее видение художника. Законы живописи с этой точки зрения определяются не жизнью, а свойствами материалов, из которых картина “построена”. Всякие попытки отобразить в искусстве действительность клеймятся как иллюзионизм и пассивная подражательность. Сюжет допускается лишь в качестве предлога для проявления активно-творческого отношения художника к холсту и краскам. Все эти принципы определяли программы Пролеткульта и Вхутеина, их провозглашали на лекциях Новицкого и Маца, в студиях Малевича и Пунина, в книгах Арватова и Тарабукина. Они прививали молодежи нелепые вкусы, воспитывая в ней презрение к правдивости. <...>Скажем прямо: формализм не только неприемлем для нас идейно и политически, но он безусловно антихудожественен. Образы, созданные формализмом, антихудожественны прежде всего потому, что они с возмутительной безответственностью уродуют природу, человека, нашу социалистическую действительность. Так же антихудожественен формализм и с точки зрения совершенства, гармонии и выразительности собственно живописных средств. Пора раз и навсегда кончить вредные разговоры о “мастерстве” формалистов, об их “новаторствах”, об их “заслугах” перед историей искусств».
После этого открытого и совершенно официального зачисления в ряды «формалистов» хранить дома произведения Малевича семье могло показаться небезопасным – как для произведений, так и для их владельцев. Выбор Русского музея в качестве институции-конфидента был логичным. С Русским музеем Малевича связывало многое – кроме всего прочего музей стал последним пристанищем его исследовательской программы, там в 1932–1933 годах художник руководил «Экспериментальной лабораторией». Его произведения были представлены на экспозиции («Искусство эпохи империализма», 1933) и на выставках музея («Первая выставка ленинградских художников»,1935). Неизвестно, каким виделось «временное хранение» родственникам художника, но в июне 1936 года судьба произведений Малевича в Русском музее была определена на самом высоком уровне. В «Правде» вышла статья председателя Комитета по делам искусств при СНК СССР Платона Керженцева «О Третьяковской галерее». В ней указывалось на то, что пополнение Третьяковской галереи «за последние годы производилось по очень странным принципам. Ее руководители исходили из либерального положения, что задачи галереи – показать в своих стенах все и всяческие течения живописи без достаточного художественного критерия и без всякого учета – являются ли эти произведения реалистическими или нет. За этой мнимой объективностью в действительности скрывалось потакание всем формалистическим и грубо-натуралистическим течениям в живописи. В результате залы Третьяковской галереи, отражающие живопись последних 20–25 лет, стали наполняться формалистическими произведениями. … Такого рода картинам место не в общих залах, а в специальных помещениях для нужд искусствоведов или на предмет демонстрации грубейших формалистических и натуралистических ошибок, совершаемых некоторыми нашими художниками. В общие залы Третьяковской галереи и Русского музея должны быть возвращены произведения крупнейших реалистов прошлого времени». Публикации статьи предшествовала докладная записка, адресованная Керженцевым в мае 1936 года И. В. Сталину и В. М. Молотову. В ней шла речь не только о Третьяковской галерее, но и о Русском музее: «последние 20–25 лет два крупнейших музея страны: Гос. Третьяковская галерея и Русский музей заполнялись сплошь и рядом произведениями формалистического и натуралистического порядка. Ничтожные по своему художественному значению и в целом ряде случаев попросту вредные, произведения эти занимают, однако, до сего времени значительную часть выставочной площади музеев». Из «значительных художников» в записке были перечислены «Репин, Суриков, Рембрандт». Для усиления приводимой аргументации документ сопровождали иллюстрации работ Кандинского, Малевича и Татлина.
Третьяковская галерея справилась с перемещением авангардной живописи в «спецпомещения» за десять дней – к 17 июня 1936 года оно было уже завершено. В Русском музее Малевича также отправили в «спецпомещение», точнее – в «карантинное» помещение в фонде Отдела советского искусства.
Став директором Русского музея в 1951 году, Василий Пушкарев довольно долго не имел никаких проблем с этой частью вверенной ему институции: как известно, в закрытом для посещения хранилище сохранность вещей только лучше! История с Маршаком и журналом «Лайф» была первой – и лишь политико-информационной – инвазией внешнего мира в музейные сокровищницы.
Да, в 1969 году Русский музей попробовал сделать ход «троянским конем» и показать Малевича на выставке «Русский и советский натюрморт». Действие, которое любому сегодняшнему куратору покажется естественным – показать работы Малевича в кругу произведений его современников, – в СССР конца 1960-х было большой дерзостью. После «прорывной» выставки Кузьмы Петрова-Водкина 1966 года и последовавшей за ней в 1967 году выставки «Петроградские Окна РОСТА» ленинградцы прямым текстом требовали – правда, довольно безрезультатно – вернуть авангард в музейные залы. В книге отзывов выставки «Петроградские Окна РОСТА» можно было увидеть такие записи: «Где художники двадцатых годов? Где Филонов, Малевич, Лисицкий, Ларионов, Фальк и другие?», «Искусство 20-х годов – настоящее искусство! Верните нам 20-е годы». Под видом «реабилитации» натюрморта Русский музей выставил произведения Гончаровой, Ларионова, Татлина, Фалька, Розановой, Машкова, Лебедева, Тырсы. И Малевича. Но ненадолго и без этикетки. Работа не была включена в каталог и была снята с выставки через три дня. Его – натюрморта – присутствие осталось лишь в воспоминаниях людей, так или иначе с этой выставкой профессионально связанных.
Однако главные битвы Пушкарева за Малевича были еще впереди. В начале 1970-х авангардным полотнам предстояло стать разменной монетой «большой экономики». В 1972 году музейный фонд СССР покинула работа Малевича «Супрематизм № 38» (1914), а в 1975 – полотно «Супрематизм № 57» (1915/1916).
Считается, что работы «ушли за рубеж» в ответ на ценные подарки. Первая – американскому бизнесмену и коллекционеру Арманду Хаммеру за дар Эрмитажу работы Гойи, а вторая – некоему «частному английскому коллекционеру в обмен на письма революционеров 1905 – 1907 года». Однако на самом деле сюжет с революционными письмами и сюжет с даром Гойи относятся к 1972 году (и к картине «Супрематизм № 38» соответственно). И в обоих случаях главным действующим лицом был Арманд Хаммер, чьи компании чрезвычайно успешно торговали с СССР с начала 1920-х годов.
«Из всех советских руководителей, – вспоминал Хаммер, – я лучше всего знал Леонида Ильича Брежнева. … При Брежневе моя фирма подписала несколько торговых соглашений с Советским Союзом, одно из которых привело к заключению крупнейшей в то время сделки, когда-либо заключенной между Советским Союзом и иностранной корпорацией, на общую сумму около двадцати миллиардов долларов. Во время переговоров по этим соглашениям нам приходилось постоянно встречаться для их обсуждения, и разговор переходил на более общие вопросы торговли между США и СССР. …. Я хотел, чтобы фирма “Оксидентал” взяла на себя ведущую роль в новой политике детанта и воплотила в жизнь мою идею “разрядки путем торговли”».
Подписав летом 1972 года соглашение с СССР о научно-техническом сотрудничестве, Хаммер искал возможности (и предлог!) для личной встречи с Брежневым: в СССР подписание соглашения не означало естественный переход к его выполнению, нужны были личные распоряжения высшего руководства. Тогда же, по воспоминанию Хаммера, к нему обратился «владелец антикварного магазина Сент-Этьен в Нью-Йорке по имени Отто Каллир» и сказал, что у него «есть два письма Ленина».
«Он, – писал Хаммер, – предлагал отдать их мне для передачи русским, если мне удастся убедить моих московских друзей подарить Каллиру несколько картин из коллекции ленинградского Эрмитажа или Пушкинского музея. Вот так сделка! Предложение было абсурдным, больше похожим на шантаж. Я считаю, что такие методы никогда не приносят успеха в отношениях с русскими. Тем не менее, если Каллир говорил правду, то у него были документы огромной исторической важности. Я договорился о встрече, надеясь, что мне удастся его уговорить. Я принес с собой несколько фотокопий полученных от Ленина писем. Внимательно рассматривая письма антиквара через увеличительное стекло, сравнивая форму каждой буквы с моими оригиналами, я пришел к выводу, что, насколько я мог судить, они подлинные. Одно из писем, написанное по-французски в 1919 году, было адресовано “товарищу Лориоту и всем французским друзьям Третьего Интернационала”. Второе было написано по-немецки в 1921 году “Кларе Цеткин и товарищу Леви”. Для полной уверенности с разрешения антиквара я сделал их фотокопии и отослал в Москву на экспертизу в Институт марксизма-ленинизма. В ответ я получил телеграмму с подтверждением подлинности писем. Теперь мне предстояло убедить Каллира в очевидном: письма должны быть переданы Советскому Союзу. Я предложил ему несколько картин из своей коллекции и значительную сумму наличными. После многомесячных переговоров сделка наконец состоялась». В октябре 1972 Хаммер привез письма в СССР и передал Брежневу с письмом, в котором говорилось, что это «дар правительству и народу СССР». В феврале 1973 года у Хаммера состоялась персональная аудиенция у Брежнева – он еще раз вручил ему письма Ленина – теперь уже в виде копий. На этой встрече, по воспоминанию американского предпринимателя, «обсуждались поставки фирмой «Оксидентал» ежегодно в Советский Союз на полмиллиарда долларов удобрений в обмен на такое же количество карбамида и аммиака для продажи в Соединенных Штатах; строительство Международного торгового центра и гостиницы в центре Москвы для обслуживания растущего количества американских и других иностранных фирм, которым требуются конторские помещения и гостиница; поставки советского газа из Восточной Сибири на Западное побережье Америки; экспорт русского никеля в обмен на оборудование для гальванопокрытия советских металлов… Заключение этих сделок сделает фирму “Оксидентал” самой активной американской корпорацией в Советском Союзе до конца двадцатого столетия». В качестве ответного дара от Брежнева Хаммер упоминает золотые часы с цепочкой.
Надо сказать, что в октябре 1972 года Хаммер (с письмами Ленина) приехал в СССР еще и потому, что 23 октября в Петровской галерее Эрмитажа открывалась выставка под неброским названием «Западноевропейская и американская живопись и рисунок (из собрания Арманда Хаммера)». На ней были представлены произведения американских художников XIX столетия, а также «Первоцвет» Дюрера, мужской портрет кисти Рембрандта, «Портрет молодой женщины с вьющимися волосами» Рубенса, «Эль Пелеле» и «Портрет актрисы Антонии Сарате» Гойи. После Эрмитажа выставка была показана в Пушкинском музее, а затем в Киеве, Одессе, Минске и Риге, почти год путешествуя по СССР. А «Портрет актрисы Антонии Сарате, созданный великим испанским художником Франсиско Гойя, американский коллекционер преподнес в дар Эрмитажу – в знак укрепления дружбы между народами США и СССР». Как вспоминал Хаммер, через какое-то время, когда он был в Москве, его пригласила к себе Фурцева. «Мы узнали, что в вашей коллекции нет картин Казимира Малевича, – сказала она. – Мы выбрали картину, которую сотрудники Третьяковской галереи считают одной из лучших работ периода супрематизма, и советское правительство просит Вас принять ее в дар». Это был настоящий сюрприз! Специалисты галереи «Нодлер» оценили ее по меньшей мере в миллион долларов». «Суперматизм № 38» задержался в личной коллекции Хаммера ненадолго. В том же году он передал ее в «Нодлер», а галерея в свою очередь в 1978 году продала картину коллекционерам Петеру и Ирене Людвиг.
Что же касается полотна «Супрематизм № 57» – история (и причина) его изъятия из состава советского музейного фонда покрыта мраком. Известно лишь, что приказ Министерства культуры СССР № 5 от 16 декабря 1975 года был подписан заместителем министра культуры СССР Владимиром Поповым, а разрешение на вывоз – Александром Халтуриным, начальником Управления изобразительных искусств и охраны памятников Министерства культуры СССР. Также известно, что в коллекцию Галереи Тейт работа была продана в 1978 году швейцарской финансовой компанией Comvalor Finanz A.G. при посредничестве лондонской галереи Thomas Gibson Fine Art Ltd.
И вот тут возникает вопрос – а причем здесь Русский музей и Пушкарев? Ведь и «Суперматизм №38» и «Суперматизм №57» происходят из коллекции Третьяковской галереи! Ответ прост: работы из собрания Третьяковской галереи были изъяты именно потому, что Пушкарев на запрос министерства выдать произведения из Русского музея ничего не дал. Именно ему в Ленинград и в 1972, и в 1975 поступали первоначальные запросы. Но, как писал сам Пушкарев: «Музей не только сохранял все наследие художника, но и на протяжении всех лет отбивал все атаки Министерства культуры СССР, требовавшего расплат картинами Малевича за дар Хаммера и за архивные письма именно от Русского музея. Русский музей выстоял и ни одной работы из своих стен не выпустил!» В 1972 году директор Русского музея – не слишком вдаваясь в детали – сослался на невозможность подобной выдачи, а в 1975 на все запросы Управления изобразительного искусства направлял информацию о находившихся в собрании рисунках и эскизах. Не удовлетворившись присылаемыми сведениями, Управление направило в музей комиссию. Перед ее приездом Пушкарев «распорядился перевести лучшие работы Малевича из запасника на чердак главного здания. Туда же отправил табличку “Ход на чердак” … Приехала комиссия. Увидела, что в фондах хорошего Малевича нет, и убралась ни с чем».
Справедливости ради надо сказать, что выдавать «хорошего Малевича» Министерству культуры у Пушкарева не было никакого права. Все эти годы 94 произведения, переданные семьей в музей, оставались их частной собственностью, музей их только хранил. В 1976 году в живых оставались три наследницы художника: его вдова – Наталия Малевич, дочь Уна Уриман и внучка Нинель Быкова. В тот год две из них – Уна Уриман и Нинель Быкова – договорились вместе обратиться в Министерство культуры с просьбой вернуть им работы Малевича из Русского музея. Министерство поручило Пушкареву вступить с ними в переговоры. В записке Управления ИЗО излагалось министерское видение механизма передачи работ в музей: «По нашему мнению, целесообразно было бы договориться со всеми тремя наследниками К.С. Малевича о передаче в дар государству части коллекции, сохраненной в течение 40 лет Русским музеем, и о приобретении другой части у наследников за суммы, принятые в нашей закупочной практике, через Государственную закупочную комиссию». О дарственной удалось договориться лишь с Наталией Малевич – «с тем, чтобы подаренные произведения никогда не продавались, не дарились и не передавались из Государственного Русского Музея». Уна Уриман и Нинель Быкова настаивали на получении компенсации за передаваемые работы. В итоге Министерство согласовало сумму выплат за 91 произведение Малевича – 21 000 рублей, по 7 000 рублей каждой из наследниц. Кроме того, «несговорчивая» Уна смогла забрать три полотна – «Голова матери», «Голова мужская» и «Три женские фигуры». Работы были возвращены в октябре 1977, тогда же Всесоюзному художественно-производственному комбинату имени Е.В. Вучетича при Министерстве культуры СССР было отправлено поручение произвести оплату и оформить приобретение.
Сумма, выплаченная наследникам за лучшую в мире коллекцию работ Малевича, была ничтожной. В пересчете по курсу 1977 года они получили 15750 долларов. На мировом арт-рынке Малевич уже тогда стоил миллионы – хоть в долларах, хоть в марках, хоть в фунтах. Позже, в 1990-х годах Пушкарева мучили из-за этого угрызения совести. В 1992 году он написал статью «Ограбленные наследники великого Малевича», в которой объяснял произошедшее. «Фактически Министерство культуры не приобретало картины Малевича, – писал он. – Экспертная закупочная комиссия не рассматривала и не оценивала каждое произведение в отдельности. Умозрительно, административным путем было принято решение: каждому наследнику достаточно выплаты за изъятые у них картины по 7 тысяч рублей в качестве компенсации. Естественно, что подобные действия нельзя рассматривать как договор купли-продажи, к тому же была нарушена ст. 48 ГК РСФСР и цены были недействительны. Тогдашнее руководство МК и Русского музея в моем лице удовлетворенно потирало руки. Еще бы! Удалось без особых усилий и финансовых расходов получить в государственную собственность уникальную коллекцию». Однако все предпринятые им попытки добиться для наследников дополнительных выплат никакого успеха не имели.

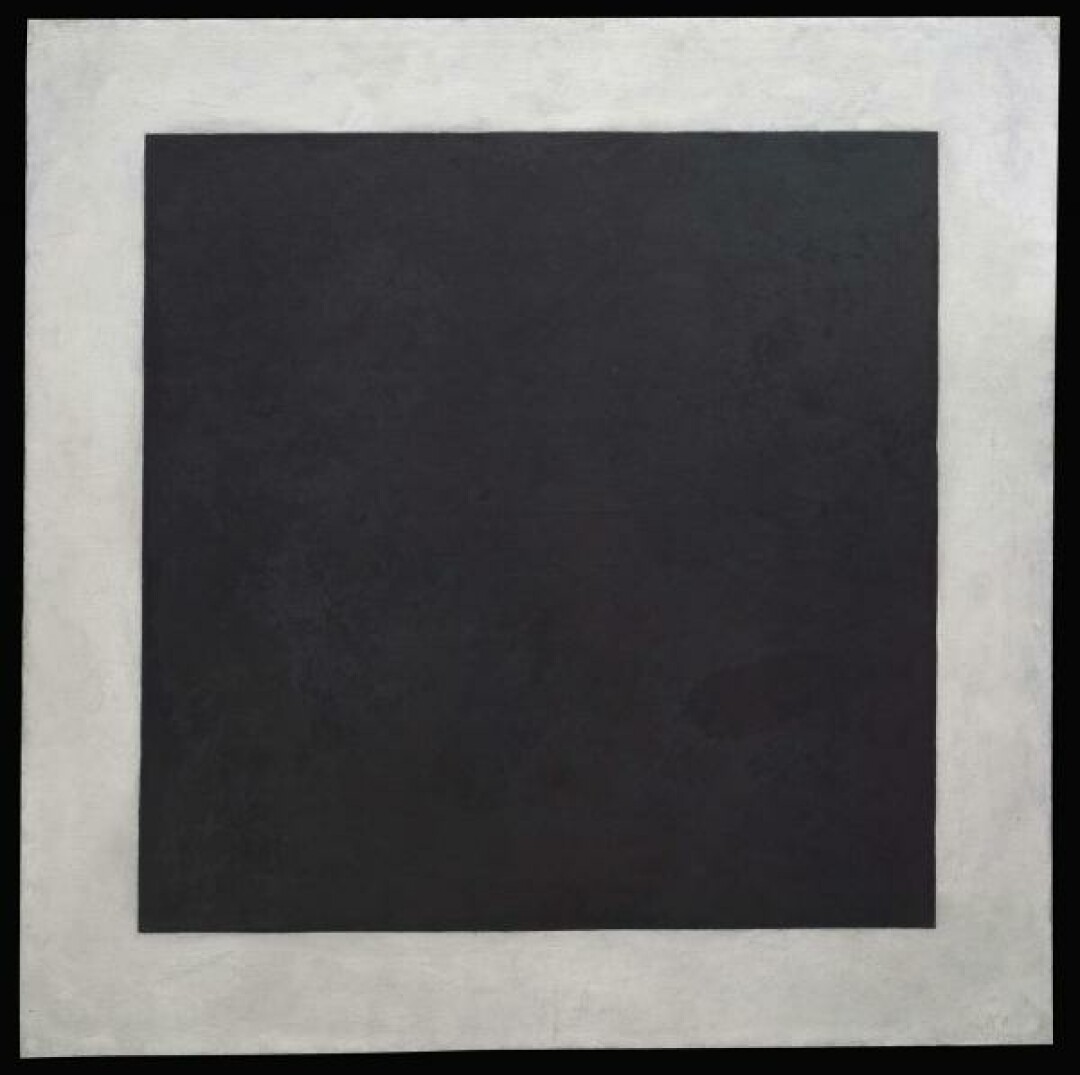



Комментарии (0)