Специалист по химии полимеров и реставратор в годы блокады учился в школе, а сейчас работает в Эрмитаже и удостоился Государственной премии за воссоздание часовых и музыкальных механизмов.

Вы помните 8 сентября 1941 года, первый день ленинградской блокады?
Мне было шесть лет. В тот день горели Бадаевские склады. Мы вышли на балкон нашей квартиры на улице Желябова (ныне Большая Конюшенная. — Прим. ред.) — в сторону Невского шел черный дым. Это был первый массированный немецкий налет, город по-настоящему познакомился с бомбардировками. Хорошо помню и первый день войны. Было солнечно, мы с бабушкой пошли заказывать билеты на самолет, чтобы лететь отдыхать в Сочи. Кассы оказались закрыты, и мы вернулись. Обеденный стол в столовой был сдвинут, а мои дедушка и дядя на полу вырезали куски из темной ткани. Дед сказал: «Война. Делаем затемнение для окон».
Испугались?
Нет. Просто подумал: очень жаль, что я не увижу теплого моря, о котором так много рассказывала бабушка.
Маленькому мальчику блокада не казалась такой страшной, как взрослым?
Конечно. Детское сознание облегчает восприятие действительности. К тому же, несмотря на все кошмары, город к лету 1942 года стал оживать: благодаря Волховской ГЭС у нас был электрический свет, были бензин, керосин, радио. Я даже осенью пошел в школу.
Детям же хочется играть. Какие игры могли быть в блокаду?
Мы, дети, во время артобстрелов играли в пятнашки в колоннаде Казанского собора, а милиционеры нам свистели из подворотни: им было страшно, а нам — нет. А еще на чердаках стояли бочки, и мы хватали зажигательные бомбы за хвост и бросали туда. Некоторые потом их пилили: этими бомбами можно было топить печь.
Вашему деду предлагали эвакуацию?
Когда эвакуировался Нейрохирургический институт, где работал дед, ему давали возможность уехать. Но он отказался: городу нужны были врачи, к тому же осколочные ранения были дедушкиной специализацией.
А как удалось пережить первую, самую страшную блокадную зиму?
У моей няньки оказался запас луковой шелухи для пасхальных яиц, и няня варила из нее суп. А однажды за дедом пришли военные, говорят: срочно нужно делать операцию. Выяснилось, что генерал Краснов в Невской Дубровке получил тяжелое осколочное ранение: были перебиты сосуды и нервы на шее. Дедушка спас ему жизнь, а когда генерал уезжал, то передал рюкзак с замороженной лошадиной ногой — она нас тогда спасла, поскольку есть было уже совсем нечего. Потом деда взяли на работу в госпиталь, уже в феврале, и с провизией стало чуть получше. В блокадном Ленинграде он сделал три тысячи операций.
Как сложилась ваша жизнь после войны?
После школы окончил химико-технологический факультет Лесотехнической академии. Попал на должность младшего лаборанта в Институт высокомолекулярных соединений Академии наук. И проработал там до 2002 года — прошел путь от младшего лаборанта до руководителя направления. Занимался синтезом сверхвысокомолекулярных водорастворимых полимеров. Могу объяснить на примере, что это такое. Если вы берете обычную воду и вам надо тушить пожар, у вас шланг бьет на двадцать метров, сильнее не может. А если добавить полимер, будут все тридцать пять метров.
Как же вы, химик, оказались в Эрмитаже?
Я серьезно занимался химией — у меня сто двадцать печатных работ, сорок авторских свидетельств. Однако после распада СССР исследования были постепенно свернуты. А я всегда интересовался искусством. Еще в 1960-е ко мне обратились из Эрмитажа за консультацией. Тогда там была лишь небольшая химическая лаборатория для консервации полиэтиленгликолем деревянных предметов, чтобы те не разваливались, и я как химик принимал в этом участие. Потом попал в отдел реставрации живописи. Занимался восстановлением «Юдифи» Джорджоне, но позже был вынужден уйти.
Почему?
Думаю, меня боялись: все-таки пришел человек, владеющий иным методом познания мира. Химия и физика — это совсем другой анализ, нежели искусствоведческий. Но я все равно поддерживал отношения с эрмитажными сотрудниками. И в 2002 году меня взяла на работу заведующая отделом западноевропейской бронзы и часов: механизмами я тоже увлекался давно, в качесте хобби.
Как вышло, что в 2010 году вам вручили Государственную премию?
Друзья тоже потом спрашивали. Скорее всего, дело в часах «Павлин», которые я с коллегами реставрировал, — они встали, а мы снова привели их в рабочее состояние. Очевидно, у комиссии зашел разговор об Эрмитаже и стали вспоминать, кому можно дать премию. «Павлина» видели все, ведь Михаил Борисович Пиотровский показывает его делегациям в первую очередь. Хотя это только моя гипотеза.
 |
Дед Валентина Алексеевича Алексей Гаврилович Молотков был одним из основателей нейрохирургии в России, а прадед по линии бабушки Николай Иванович Липин возглавлял в 1860-е годы департамент железных дорог при Комитете министров. Сейчас Валентин Молотков работает старшим научным сотрудником лаборатории научной реставрации часов и музыкальных механизмов Эрмитажа. |
Текст: Анна Сметанина
Фото: Алексей Федотов
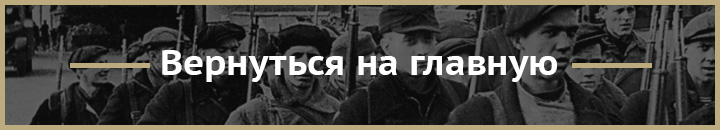
Комментарии (3)